— Что же ты творишь, родной?
— Отстань! — огрызнулся он. — Достали вы все!
Хлопнула дверь. Анна Петровна опустилась на стул. В памяти всплыло лицо Наташи: «Он останется с вами». Вот и остался. А она не уберегла, не удержала.
С той ночи все покатилось под откос. Коля словно с цепи сорвался — прогуливал школу, огрызался на учителей. Домой являлся за полночь.

Звонок в дверь прозвучал резко и требовательно. Анна Петровна, погруженная в воспоминания над старым фотоальбомом, вздрогнула, смахнула непрошеную слезу и поспешила в прихожую. На пороге стояла соседка, Клавдия Ивановна, с кастрюлей, накрытой цветастым полотенцем.
— Петровна, голубушка, отведай пирожков! С капустой, как ты любишь, — затараторила она, просачиваясь в дом. — А то знаю я тебя — опять весь день крошки во рту не было.
Анна Петровна слабо улыбнулась, пропуская гостью на кухню. В последнее время она и правда часто забывала про еду, все больше сидела над альбомами да письмами, перебирая прожитые годы, словно четки.
— И что это ты все одна да одна? — покачала головой Клавдия, расставляя чашки. — Сын-то когда звонил в последний раз?
— Да на прошлой неделе вроде, — Анна Петровна отвела глаза. На самом деле Виктор не звонил уже месяца два, но признаваться в этом не хотелось.
— Эх, Петровна, Петровна… — вздохнула соседка. — Избаловала ты его. Вот и получила.
Анна Петровна промолчала. Что правда, то правда — избаловала. Как не баловать, когда один-одинешенек рос, без отца? Муж ее, Петр Семенович, погиб в автокатастрофе, когда Витеньке и трех лет не исполнилось. Так и растила одна, все для него, все ради него.
— Помнишь, как он в первый класс пошел? — словно прочитав ее мысли, спросила Клавдия. — Такой карапуз был, портфель больше самого.
— Как не помнить, — тихо отозвалась Анна Петровна. — Я тогда во вторую смену на фабрику устроилась, чтобы утром его в школу собирать. И с уроками сидела до ночи…
Она помнила каждый его шаг, каждую улыбку, каждую слезинку. Как первый зуб выпал, как на велосипеде учился кататься, как в футбол гонял во дворе до темноты. Все для него старалась — и обновки, и игрушки, и кружки всякие. Сама в одном платье годами ходила, а ему — все самое лучшее.
— А помнишь, как он Наташку свою привел? — продолжала бередить душу соседка.
Еще бы не помнить! Наташенька — тоненькая, светленькая, глаза васильковые. Вошла в дом — и словно солнышко взошло. Анна Петровна сразу всем сердцем к ней прикипела. А уж когда Коленька родился…
— Знаешь, Клав, — вдруг прервала она соседку, — я ведь как Колю первый раз на руки взяла, так и поняла — вот оно, счастье-то мое настоящее.
Маленький был — золотце чистое. Кудрявый, глазастый, щечки что яблочки. И характером — весь в мать, ласковый, приветливый. Виктор с Наташей на работе пропадали — молодые, амбициозные, карьеру делали. А она с внуком водилась, не нарадовалась.
— Три года-то как промелькнули, — вздохнула Анна Петровна. — Все вместе, все дружно. А потом…
Она замолчала, стиснув в пальцах чайную ложку. Вспоминать о том, что случилось потом, не хотелось. Как начались скандалы, как Наташа все чаще задерживалась на работе, как Виктор хмурился и запирался в кабинете. Как однажды утром собрала вещи и ушла — красивая, прямая, только губы дрожат.
— Да уж, — покачала головой Клавдия. — Не сложилось у них. А ведь такая пара была…
— Знаешь, Клав, — тихо проговорила Анна Петровна, — я ведь все думаю — может, моя вина? Может, не так что-то делала? Лезла не в свое дело?
— Полно тебе, — отмахнулась соседка. — Ты-то тут при чем? Сами не сумели счастье сберечь.
Но Анна Петровна не слушала. Перед глазами стояло заплаканное лицо невестки, растерянные глаза сына, притихший Коленька, жмущийся к бабушкиным коленям. Сердце до сих пор ныло, когда вспоминала тот день.
— Ладно, засиделась я у тебя, — спохватилась Клавдия. — Ты пирожки-то ешь, не забывай. И не раскисай. Глядишь, образуется все.
Проводив соседку, Анна Петровна вернулась к альбому. С пожелтевшей фотографии смотрела молодая семья: сын обнимает красавицу-жену, на руках у нее — крошечный сверток, а рядом — она сама, счастливая, помолодевшая от радости.
— Господи, — прошептала она, поглаживая снимок дрожащими пальцами, — дай им сил все исправить. Ради Коленьки, ради всех нас…
Но где-то в глубине души она уже понимала — не исправить. Слишком глубока трещина, слишком сильна обида. И теперь ей, только ей предстоит стать той соломинкой, за которую будут держаться и сын, и невестка, и — главное — внук.
Она еще не знала, что это только начало испытаний. Что впереди — долгие годы одиночества сына на чужбине, редкие визиты Наташи с новой семьей и самое страшное — медленное падение любимого внука. Но сейчас, глядя на фотографию, она просто плакала над разбитым счастьем, которое казалось таким прочным. А потом…
Потом настал тот самый день. На кухне было особенно тихо. Наташа собирала вещи, методично складывая их в большую дорожную сумку, а Анна Петровна, замерев у окна, беззвучно шептала молитву.
— Может, одумаешься? — голос у нее дрожал. — Ну куда?
Наташа распрямилась, тряхнула светлыми волосами:
— Мама, не начинайте. Все решено. Витя сам виноват — я больше не могу так жить.
Где-то в глубине дома хлопнула дверь — вернулся Коля из школы. Анна Петровна дернулась было к выходу, но невестка остановила:
— Не надо. Я сама.
Анна Петровна прижалась лбом к холодному стеклу. До нее доносились приглушенные голоса:
— Мам, а как же?
— Милый, понимаешь…
— А папа?
— Коленька…
Потом все стихло. Наташа вернулась на кухню, глаза красные, но сухие.
— Он останется здесь, — сказала она глухо. — С вами. Пока все не устроится.
— А потом?
— Потом видно будет.
Больше они не разговаривали. Наташа закончила сборы, чмокнула сына в макушку и ушла, прямая как струна. Коля забился в угол дивана, обхватив колени руками.
Вечером пришёл Виктор:
— Мам, я на заработки уезжаю.
— Сынок…
— Присмотри за Колькой, ладно? Я буду деньги присылать.
Анна Петровна не спала всю ночь. Внук метался во сне, всхлипывал. Она сидела рядом, гладила спутанные кудри и думала о том, как странно устроена жизнь — вот она снова, как тридцать лет назад, остается одна с ребенком на руках.
Шли недели. Коля замкнулся, почти не разговаривал. На звонки отца отвечал односложно.
Как-то воскресным утром в дверь позвонили. На пороге стояла Наташа — похорошевшая, в новом светлом пальто. За ее спиной маячил высокий мужчина с букетом.
— Здравствуйте, Анна Петровна, — она чмокнула бывшую свекровь в щеку. — Познакомьтесь, это Андрей. Мой муж.
Анна Петровна растерянно пожала протянутую руку. Наташа быстро оглядела прихожую:
— А Коля дома?
— В своей комнате, — тихо ответила Анна Петровна. — Только он…
Договорить не успела — Наташа уже скользнула мимо нее:
— Колька! Сынок!
Из комнаты донеслось невнятное бурчание. Анна Петровна неловко пригласила Андрея на кухню, поставила чайник.
— Вы не подумайте, — начал было он, — мы с Наташей хотим…
С лестничной площадки донесся громкий хлопок двери — это Коля вылетел из дома, даже куртку не накинув.
— Опять убежал, — вздохнула появившаяся на кухне Наташа. — Ничего, я понимаю. Ему нужно время.
Она присела к столу, машинально поправляя прическу:
— А у нас новости. Мы ждем ребенка.
Анна Петровна замерла с чашкой в руках. А Наташа торопливо продолжала:
— Я буду чаще приезжать, честное слово. И Коля… он должен познакомиться с братиком или сестричкой.
Они просидели еще час — Наташа рассказывала о новой квартире, о планах, о том, как они с Андреем познакомились. Анна Петровна слушала, кивала, подливала чай. А сама все думала о внуке, убежавшем на мороз в одной рубашке.
Весной у Коли появилась сестренка — крошечная Машенька с таким же курносым носиком, как у него. Наташа привезла показать дочку, долго уговаривала сына взять малышку на руки. Он отнекивался, но потом все-таки подержал — неумело, боязливо.
— Вылитый Коленька в детстве, — улыбнулась Анна Петровна невестке.
— Правда? — удивилась та. — А мне кажется, она на Андрея похожа…
Коля резко встал, передал сестру матери:
— Я пошел. Дела.
С тех пор Наташа стала наведываться еще реже — то с Машей занята, то уже с обоими детьми. Привозила иногда гостинцы, рассказывала новости, пыталась разговорить сына. Но он все больше отмалчивался, а то и вовсе исчезал из дома, едва заслышав звонок в дверь.
— Не хочет меня видеть, — жаловалась Наташа Анне Петровне. — Как стену между нами поставил.
— Время нужно, — качала головой свекровь. — Сердцу не прикажешь.
А про себя думала — какое уж тут время, когда у мальчишки в душе такая рана. Каждый новый брат или сестра — как соль на эту рану. Будто чужое счастье ему в укор.
Наташа приезжала еще несколько лет — все реже и реже. Привозила детей, подарки, пыталась наладить отношения. Но Коля так и не оттаял. Все больше хмурился, огрызался, а потом и вовсе перестал выходить к матери.
— Не мучай себя и его, — сказала как-то Анна Петровна, глядя на расстроенную бывшую невестку. — Он взрослый уже. Сам решает.
— Да какой взрослый, — вздохнула Наташа. — Обиженный ребенок. А я… я ведь правда его люблю. Только он не верит.
Она уехала, а Анна Петровна долго стояла у окна, глядя вслед удаляющейся машине. Где-то там, в новом светлом доме, росли веселые курносые дети, цвели цветы на подоконниках, пахло пирогами. А здесь, в старом доме, одинокий подросток прятал свою боль за показной злостью и равнодушием.
— Не переживай так, — говорила Клавдия Ивановна, забегая на чай. — Переболит. Дети крепче нас, взрослых.
Но Анна Петровна видела — не переболело. Наоборот, словно нарыв зрел, готовый в любой момент прорваться.
А потом появился Генка с соседней улицы. Рыжий, наглый, на два года старше. Зачастил к Коле, сидели допоздна, запершись в комнате. От Генки пахло табаком и чем-то еще, незнакомым.
— Друг у меня теперь, — бросил как-то Коля за ужином. — Он мне как брат. Настоящий.
Анна Петровна промолчала. Сердце кольнуло тревогой.
Вскоре к Генке прибавились другие — лохматый Серега, бледный Димка по прозвищу Шнырь. Коля стал пропадать вечерами, возвращался поздно. От него тоже потянуло табаком.
— Господи, — шептала Анна Петровна, стоя перед иконой, — сохрани его, направь на путь истинный.
Однажды ночью в дверь позвонили. На пороге стоял участковый, за его спиной — понурый Коля.
— Гражданка Воробьева? Внук ваш с дружками на детской площадке пиво распивали, сломали качели. В первый раз — устное предупреждение. Но чтоб больше не повторялось.
— Не повторится, — пролепетала Анна Петровна.
Коля проскользнул мимо нее в дом. Она пошла следом:
— Что же ты творишь, родной?
— Отстань! — огрызнулся он. — Достали вы все!
Хлопнула дверь. Анна Петровна опустилась на стул. В памяти всплыло лицо Наташи: «Он останется с вами». Вот и остался. А она не уберегла, не удержала.
С той ночи все покатилось под откос. Коля словно с цепи сорвался — прогуливал школу, огрызался на учителей. Домой являлся за полночь.
— Сынок, может, к отцу съездишь? — осторожно предложила как-то Анна Петровна. — Он звонил, зовет…
— Больно надо! — фыркнул внук. — Нашел время папашей быть.
И снова убежал к своим дружкам.
Каждый вечер Анна Петровна оставляла на плите ужин и садилась у окна — ждать. За стеклом мелькали тени, шумела улица, а она все сидела, перебирая четки и шепча молитвы.
Иногда, очень редко, Коля возвращался трезвый и спокойный. Тогда они пили чай на кухне, и внук вдруг начинал говорить — о школе, о друзьях, о том, что хочет стать программистом. В такие минуты он становился прежним — тем маленьким светлым мальчиком, которого она когда-то качала на руках.
Но чаще он приходил злой и дерганый. Запирался у себя, включал музыку на полную громкость. А утром исчезал, не позавтракав.
— Вот ведь как бывает, — вздыхала Клавдия Ивановна. — Не уследила ты за парнем, Петровна.
— Да разве ж углядишь? — качала головой Анна Петровна. — Сердце-то не заменишь. Мать нужна, отец. А я что? Старуха…
Но каждый вечер снова зажигала свет на кухне, грела ужин и ждала. И молилась — истово, отчаянно, до боли в коленях. За сына, за невестку с ее новой семьей. И особенно — за внука, такого родного и такого чужого, потерявшегося между взрослым миром и своей детской обидой.
С тех пор прошло много лет. Ключ никак не хотел поворачиваться в замке. Николай повозился с минуту, чертыхнулся и с силой надавил плечом. Дверь поддалась с натужным скрипом, пахнуло затхлостью и пылью.
— Надо же, — пробормотал он, оглядывая прихожую, — все как было.
На стене по-прежнему висело старое зеркало в облупившейся раме. Николай поймал в нем свое отражение и замер — показалось, что из глубины мутного стекла на него глянул незнакомец. Высокий, плечистый, с ранней сединой в висках.
— А бабуля всё причитала: «Худенький ты у меня, Коленька, кушай побольше…»
Он тряхнул головой, отгоняя воспоминание. Достал из кармана блокнот с записями — что нужно забрать, что выбросить, что продать. Дом давно следовало привести в порядок, но все не доходили руки. А теперь вот — нашлись покупатели, пришлось взяться.
На кухне все еще стояла старая газовая плита с облезлой эмалью. Николай провел пальцем по конфорке — в памяти всплыл запах подгоревшей манной каши.
— Вечно она меня этой кашей пичкала. А я нос воротил…
В серванте позвякивала посуда — он методично вынимал тарелки, чашки, раскладывал по коробкам. На дне обнаружился помятый алюминиевый подстаканник.
— Чай-то остыл совсем, — словно наяву услышал он бабушкин голос. — Давай подогрею?
— Да ладно, ба, и так сойдет…
— Нет уж, внучек, горяченьким надо. С простудой не шутят.
Николай с силой захлопнул серванта. Что толку теперь вспоминать? Не вернешь, не исправишь.
В комнате громоздилась старая мебель — шкаф, диван, этажерка с книгами. Пыль клубилась в солнечном луче, падавшем из окна. На подоконнике — засохший фикус в облезлой кадке.
— Господи, она же его двадцать лет растила, — пробормотал Николай. — А я и не заметил, когда он засох.
На стене висела фотография — он сам, лет пятнадцати, насупленный, в кожаной куртке. Рядом — бабушка, маленькая, седая, глаза тревожные.
— А ведь это перед тем случаем было, — вспомнил он. — Когда меня с Генкой в милицию забрали…
Он снял фотографию, сдул пыль. С обратной стороны выцветшими чернилами: «Коленька». Почерк дрожащий, старческий.
На письменном столе громоздились старые тетради, конверты, какие-то бумаги. Николай машинально выдвинул ящик — и замер. На дне лежала жестяная коробка из-под индийского чая, с павлинами по бокам.
— Берегла ведь, помню. Не выбросила.
Он повертел коробку в руках, открыл. Внутри — пожелтевшие десятирублевки и сложенный вчетверо тетрадный листок.
«Сегодня Коля принес первую зарплату — 50 рублей».
Николай опустился на стул, не сводя глаз с записки. Вспомнил тот день — свою гордость, бабушкины счастливые глаза.
— На работу устроился, бабуль! Программистом, представляешь? Вот, первая получка…
— Ох, внучек, молодец какой! Давай отметим? У меня пирог есть…
— Да некогда, баб. Я к ребятам обещал…
И ушел, даже чаю не попил. А она, выходит, записала. И деньги сберегла — первые его, заработанные.
За окном вдруг громко засмеялись дети. Николай вздрогнул, поднял голову — и словно очнулся. Перед глазами поплыло, к горлу подступил колючий ком.
Вспомнилось разом все — ее бессонные ночи у окна, остывающий ужин на плите, тихие молитвы за закрытой дверью. Ее натруженные руки, стирающие его футболки. Ее слезы, которые она прятала, думая, что он не видит.
— А я-то.. — пробормотал он, утирая щеку. — Смеялся над ней с дружками. Выжила из ума, мол, только молиться и умеет…
Он снова уставился на записку. Буквы расплывались перед глазами.
— Прости меня, бабуля. Не знал я… не понимал…
В прихожей что-то скрипнуло. Николай вскинулся — показалось на миг, что сейчас откроется дверь и войдет она, маленькая, легкая, в своем неизменном платке:
— Коленька? Ты вернулся?
Но в доме было тихо. Только ходики на стене отстукивали время — то самое, которое уже не вернуть.
Он бережно сложил записку, спрятал в бумажник. Подошел к окну, посмотрел во двор.
— Вот и вырос я, бабуль. Жаль только, что поздно поумнел.
Блокнот с записями так и остался лежать на столе. Николай медленно прошелся по дому, трогая старые вещи, вдыхая знакомый запах. Каждая мелочь хранила память о ней — о той, что любила его просто так, без условий и требований. О той, чью любовь он понял слишком поздно.
У двери он обернулся в последний раз. В луче солнца кружилась пыль, тикали ходики, а с фотографии смотрела маленькая седая женщина — и глаза ее были полны той самой, бесконечной материнской любви, которую не измерить ничем.
— Спасибо тебе, — прошептал Николай. — За все спасибо.
И тихо прикрыл за собой дверь.











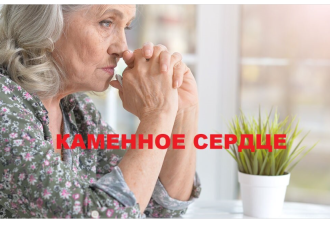





 Научись готовить нормально. Хочу, чтобы у нас было как у мамы — заявил мне муж, ковыряя вилкой в тарелке
Научись готовить нормально. Хочу, чтобы у нас было как у мамы — заявил мне муж, ковыряя вилкой в тарелке