Квартиру они выбрали с трудом. Искали долго: и по цене, и по району, и чтобы светлая сторона, и садик рядом. У Лиды тогда только началась удалёнка, и Рома, как водится, на себя взял всё остальное — хождение по агентам, проверки документов, созвоны с банком. Первоначальный взнос дал он. Молча, без напоминаний. Оставили его имя в договоре. Она не настаивала, ей так даже спокойнее — кто знает, как жизнь повернётся.
— Главное, теперь у нас будет своё, — сказала она, обнимая его посреди кухни с облупившейся краской. Тогда им всё казалось новым и важным: краска, свет из окна, даже капающий кран.
Сейчас она заходит в ту же кухню и первым делом ставит чайник. Греется в старой зелёной куртке, которую Рома терпеть не может — «да выкинь ты её уже, у неё даже молния не работает». Он слышит, как она шаркает тапками. Она всегда шаркает, когда нервничает.

— Мама приедет на пару недель, — говорит она за спиной, стараясь говорить ровно.
— На сколько? — спрашивает он, не оборачиваясь.
— На две недели. Максимум. Ей просто надо немного восстановиться. Врачи… давление… ну, ты сам знаешь.
Он знает. «Врачи», «давление», «немного восстановиться» — уже трижды это «немного» растягивалось на месяцы. Она приедет с баулами, кастрюлями, настойками, с пледом и своей подушкой. Она войдёт в дом, как хозяйка, и ему снова придётся делать вид, что это нормально.
— Ты хотя бы спросила меня? — всё же спрашивает он, отрываясь от экрана. — Я вообще здесь кто? Человек, мебель, или просто спонсор?
Лида смотрит на него так, как будто он сказал что-то жестокое. У неё всегда такой взгляд, когда она не хочет ссориться.
— Ром, ну что ты. Это же мама.
Он не отвечает. Просто берёт чашку, выходит в коридор и закрывает за собой дверь кабинета. Он научился не спорить. До поры.
Мать Лиды, Ирина Валерьевна, появилась через три дня. Она не звонила, не спрашивала, не уточняла. Просто позвонила в домофон в 8:12 утра, и через десять минут в прихожей уже стоял её фирменный чемодан цвета слоновой кости и два пакета из «Ленты».
— Привет, мои дорогие, — она говорила с таким видом, будто вернулась туда, где её давно ждали.
На Лиду не кричала, но сразу заметила, что у неё синяки под глазами. На Рому посмотрела оценивающе. Прежняя форма, значит, не вернулась, хотя он вроде как в зал ходит. Потом подняла брови:
— Так, а что у вас с окнами? Почему на кухне до сих пор нет нормальных штор?
Он молча пошёл умываться. Раньше отвечал. Сейчас — тратил силы иначе. Ирина Валерьевна не воспринимала слов, если в них не было покаяния или благодарности.
Вечером, когда Рома вошёл на кухню налить себе воды, она уже рассортировала все крупы в банки, переклеила этикетки и поставила греть молоко «для спокойного сна».
— А где рис? — спросил он, глядя в шкаф.
— Вы его не едите. Я выбросила — там моль завелась. Неудивительно: в таких условиях…
Он сжал челюсть, но промолчал.
Дальше пошло по знакомому сценарию. Ирина Валерьевна вставала раньше всех и включала блендер, варила каши на козьем молоке и каждый вечер оставляла немую претензию в виде перемытой посуды. Она не ругалась — просто вздыхала. Смотрела на Лиду с укором, на Рому — с осуждением.
Один вечер, когда Лида задержалась у подруги, они остались вдвоём на кухне. Рома вернулся поздно, усталый, с тяжелой головой, и сразу понял, что избежать разговора не получится.
— Знаешь, Роман, — сказала она, тихо, почти ласково, — я всё понимаю. Ты работаешь, устаёшь. Но ты мужчина. А в доме как-то… ну, нет уюта.
Он сидел напротив и чувствовал, как в нём что-то закипает. Не бурно, не взрывом — медленно, как в кастрюле с пригоревшим дном.
— Вы что хотите этим сказать?
— Да ничего. Просто… в нормальной семье всё иначе. Я у себя с мужем… ну, ты же знаешь, всё было по-другому. Он не позволял, чтобы женщина так уставала, как Лида сейчас.
Он встал и вышел. Не потому что не знал, что сказать. А потому что знал, что сейчас скажет лишнее.
Через три недели она всё ещё была в квартире. Сумки стояли в прихожей, но не тронуты. Лида сказала, что мама плохо себя чувствует, и надо немного потерпеть.
— Я ведь у тебя попросила всего две недели, — сказала она как-то вечером, укладывая на балкон свои банки с вареньем. — А что такое две недели? Ты вот ипотеку платишь на двадцать лет — и ничего.
Он усмехнулся. И в этой усмешке было больше раздражения, чем он сам осознавал.
— Ипотека, по крайней мере, не лезет мне в шкаф с носками.
— А ты попробуй их сам разложить, — бросила она с кухни. — Я вчера три пары грязных нашла под диваном. Что за привычка — жить в свинарнике?
Он медленно вышел из комнаты, подошёл к дверному косяку и сказал почти шёпотом:
— Вы живёте у меня дома. У меня. Не я — у вас.
Она фыркнула:
— Дом — это там, где тебя ждут. А у тебя тут — просто стены.
Он ушёл на балкон. Закурил. Хотя бросил полгода назад.
Он не считал, сколько недель прошло. Сначала злился. Потом — устал. Потом просто начал жить рядом, как с соседом по коммуналке: сдержанно, по минимуму. Вставал раньше всех, уходил, возвращался поздно, ужинал за ноутбуком. Лида сначала пыталась что-то сглаживать, потом тоже устала. У них стало меньше разговоров. Меньше касаний. Меньше «мы».
Ирина Валерьевна как будто этого не замечала. Или делала вид. Утром разогревала кашу, на ужин жарила котлеты. Спрашивала с порога: «А где ты был?» и качала головой: «Уж сколько можно задерживаться…» Иногда, когда Лиды не было дома, начинала говорить о «женской доле», о «настоящих мужьях», о том, как у неё самой отец Лиды «на руках носил».
Он всё чаще ловил себя на мыслях, что просто не хочет домой.
Раз в месяц приходила платёжка по ипотеке. Они с Лидой делили счета: он — жильё и коммуналку, она — продукты, дети, одежда. Хотя детей пока не было, но она упорно покупала детские книги, коробки для пелёнок, белые бодики со скидки.
Когда он как-то вечером сказал, что, может, пока повременят — не сейчас время, — Лида обиделась.
— А когда, по-твоему, «сейчас»? Когда мне будет сорок? Или когда ты решишь, что готов?
Ирина Валерьевна, проходя мимо, вставила:
— У нормальных мужчин понятие «время» как-то совпадает с женскими возможностями. А не только с их графиком отпусков.
Он не ответил. Потому что если бы ответил — сказал бы про то, что не хочет, чтобы их будущий ребёнок рос в доме, где мать боится сказать слово, а бабушка командует как министр.
Иногда он вспоминал начало. Первые месяцы после свадьбы. Как Лида теребила рукав его рубашки, пока они засыпали. Как стеснялась громко смеяться. Как звонила ему на работу просто так, чтобы сказать «я соскучилась».
Сейчас она засыпала с телефоном. С мамой. Или в наушниках. Иногда у них стояли три разных будильника, и никто не просыпался вовремя. Он брал с собой еду на работу, которую сам готовил. Лида забывала.
— Ты знаешь, у неё щитовидка, — как-то сказала ему Ирина Валерьевна, когда он опять проглотил слова по поводу неработающей вытяжки, разбросанных платков и вечного запаха чеснока.
— Щитовидка не мешает сложить полотенце обратно в шкаф.
— У тебя проблемы, Роман. Ты всё меряешь по себе.
— А вы всё — через обиды.
— Потому что мне больно! — воскликнула она и резко вскочила. — Я смотрю, как моя дочь медленно угасает в этом доме. Становится чужой. Ты вытягиваешь из неё жизнь. Своей холодностью. Своим равнодушием.
Он молча вышел из кухни. Потому что иначе снова пришлось бы объяснять, почему именно он покупал Лиде билеты на йогу, платил за её терапевта, терпел, когда она неделями была «никакая» и не хотела говорить.
В феврале у него начались проблемы на работе. Проект, на который он рассчитывал, заморозили. Клиент ушёл. Начались переговоры о сокращении штата. Он не говорил об этом ни Лиде, ни Ирине Валерьевне. Ждал. Думал, что пройдёт.
Но не прошло.
Однажды он пришёл домой раньше обычного. Тишина. Из спальни слышались голоса. Он хотел просто сесть, снять ботинки, но вместо этого остановился у двери и услышал:
— Мам, ну хватит. Ну да, он стал другим. Но что я могу?
— Ты можешь понять, наконец, что это не твой мужчина. Не тот. Ты можешь уйти. Ты же не рабыня.
— Уйти куда? — Лида говорила устало. — В квартиру к тебе?
— Да хоть ко мне. Главное — не здесь. Не в этом напряжении.
Он не стал слушать дальше. Просто вышел на лестничную площадку, присел на ступени и просидел там сорок минут. Потом вернулся — и сделал вид, что всё как обычно. Он ел остывший суп и слушал, как Лида рассказывает про нового специалиста по СММ. Кивал.
— Может, поедем куда-нибудь? — вдруг сказал он. — Просто вдвоём.
Она смутилась.
— Сейчас? С работы никак… И мама…
— Мама — не жена, — тихо сказал он.
Ирина Валерьевна вошла в кухню в тот момент, как будто почувствовала. Улыбнулась.
— Чаю кто-нибудь хочет? У меня там ромашка.
Потом они всё же уехали. На два дня. На дачу его коллеги. Без интернета. Без привычных раздражителей. Лида расслабилась только ко второй ночи. Они сидели на веранде с пледом, и он почувствовал ту прежнюю Лиду — тихую, мягкую, чуть растерянную. Она смеялась. Настояще. Давно не слышал этого смеха.
— Я скучаю, — сказал он ей.
Она посмотрела на него долго.
— Я тоже.
Он почти поверил, что всё получится.
Вернувшись, он понял: дом стал не домом. Пакеты с вещами Ирины Валерьевны всё ещё стояли в прихожей. На кухне — её заварка, на подоконнике — её алоэ. На зеркале в ванной — её записка: «Не забудь про давление!»
Наутро, когда он вышел из душа, в коридоре они стояли вдвоём. Мать с дочерью. Лида держала что-то в руке. Была напряжённая, но собранная.
— Мам, — сказала она, — я поговорила с Ромой. И я… думаю, тебе всё-таки лучше уехать.
Ирина Валерьевна замерла. На секунду. Потом мягко опустилась на пуфик.
— Ну вот, — сказала она медленно. — Ты выбрала. Тебе хорошо в этом доме, где ты чужая. Где никто тебя не жалеет. Где за тебя никто не стоит.
— Мам, не начинай…
— Ты и говорить стала, как он. Всё спокойно. А внутри — пусто. Ты просто ещё не понимаешь. Потом поймёшь. Но будет поздно.
Он не вмешивался. Просто стоял, держа в руке полотенце, и чувствовал, как у него внутри сжимается что-то почти живое.
Ирина Валерьевна собиралась долго. С показным спокойствием. Доставала свои банки с подоконника, складывала вещи в чемодан, раскладывала по пакетам лекарства и настойки. На кухне скрипели шкафчики. С балкона она принесла старую шаль, повесила её на спинку стула, потом снова сняла. Всё делалось как будто неспешно, но с явным посылом: «Смотрите, я ухожу. Я вам больше не нужна».
Лида всё это время металась по квартире. Старалась быть вежливой, но не переигрывать. Предлагала чай, помощь, успокаивающие капли.
— Мам, я могу заказать такси…
— Не надо, — отрезала та. — Я дойду сама. У вас тут недалеко, как ты говорила. Или это ты просто хотела поскорее меня выставить?
Рома в разговор не вмешивался. Он пил кофе и мысленно отсчитывал минуты. Хотел, чтобы всё уже закончилось. Хотел тишины. Пустой раковины. Привычного воздуха. Хотя бы пару часов без слов.
Перед самым выходом Ирина Валерьевна достала из кармана листок и протянула Лиде.
— Здесь мои лекарства и график. Чтобы ты не забыла. И ещё — список покупок. А то мне с дачи в город тяжело мотаться.
— Мам, мы же договаривались, ты поедешь в город. Пока.
— Пока? — переспросила она, с удивлением. — А потом что?
— Потом — посмотрим.
— Ну да… Посмотрим. Вы всегда «потом». Потом решим, потом подумаем, потом начнём жить. А жизнь-то идёт, Лидочка. И я её вижу.
После её ухода в квартире повисла странная тишина. Не освобождение, не облегчение — именно тишина. Как после долгого визита, когда не знаешь, что с собой делать. Рома ушёл в кабинет. Лида легла на диван и пролежала так до вечера.
Ночью она тихо зашла к нему, села рядом на пол.
— Ты меня ненавидишь?
— За что?
— За то, что я всё это допустила.
Он помолчал. Положил ладонь ей на плечо.
— Нет. Просто ты долго не хотела видеть. И я устал объяснять.
— Я просто… Она же мама.
— А я — не ребёнок.
Она ничего не ответила.
Через неделю Рома узнал, что его проект окончательно закрыли. Оставалось два месяца — до официального сокращения. Он пришёл домой, сел в кухне, открыл бутылку вина и смотрел, как часы на стене отмеряют время.
Лида вошла тихо.
— Что случилось?
— Меня скоро сократят.
Она замерла. Потом подошла, села напротив.
— Деньги есть?
— На пару месяцев. Потом — как пойдёт.
Она опустила глаза.
— Мы справимся. Я найду подработку. Мама может помочь.
Он резко поставил бокал на стол. Не громко, но достаточно.
— Опять мама?
— Да не так. Я просто…
— Не надо. Мы сами.
Она кивнула. И, впервые за долгое время, он увидел: она действительно с ним. Не за, не против, не между — а рядом.
Через месяц они поехали к Ире Валерьевне. На дачу. Повидаться. За зиму Рома не навещал её ни разу. И ехал с сильной настороженностью — знал, как она умеет превращать любой визит в сцену. Но Лида настояла.
— Просто посидим. Час. Я ей тостовницу привезу — она давно просила. Ты можешь не выходить из машины, если не хочешь.
Но он вышел. Был тёплый мартовский день, снег почти сошёл. Пахло землёй, костром, листвой.
Ирина Валерьевна встретила их в пальто и шерстяных носках. Пригласила на чай. Принесла пирог. Смотрела в глаза долго, с осторожностью.
— Я подумала, — сказала она, аккуратно наливая чай, — может, я действительно немного переборщила. Просто я всегда думала, что лучше знаю, как правильно.
Рома не знал, что сказать. Поэтому просто вздохнул.
— Знаете, — тихо произнёс он, — я ведь не враг. Я просто хочу жить в своём доме, по своим правилам. Без унижений. Без перекладывания вины. Без обвинений.
Она подняла брови, но не перебила.
— Я Лиду люблю. И если вы хотите, чтобы ей было хорошо — дайте нам жить. Как мы можем. А не как вы бы хотели.
В ответ — молчание. Долгое. Потом она встала, пошла к плите, достала банку с сушёными травами.
— Хочешь, забери. Твоя мама говорила, что у тебя давление.
Он усмехнулся. Первый раз — по-настоящему.
Весной им стало легче. Лида больше работала, Рома искал заказы, пробовал себя в новом. Они не ссорились. Просто жили. Иногда вспоминали те месяцы с горечью. Иногда — с иронией. Лида даже завела привычку записывать «мамины фразы» в блокнот. Потом смеялась, перечитывая.
— Знаешь, — сказала она однажды, сидя рядом с ним на балконе, — мама мне недавно прислала открытку. Написала: «Не обижай своего мужа. Он у тебя настоящий. Просто у него броня».
— Броня?
— Ну да. И внутри добрый.
Он кивнул. Повернулся к ней, прижал к себе.
— А внутри у тебя?
— У меня — усталость. Но и надежда.
Он обнял её крепче. А потом, будто вспомнив что-то важное, сказал:
— Когда она тогда собирала сумки… Я ведь действительно был на грани. Хотел уйти.
— Почему остался?
Он посмотрел на неё внимательно. Взял её ладонь в свою.
— Потому что ты стояла между нами. И впервые — не разрываясь, а выбирая. Себя. Нас.
Она улыбнулась. И, будто не веря, прошептала:
— А ты?
Он выдохнул.
— А я просто устал быть мишенью. Я ведь тебя люблю. Но больше я не позволю, чтобы в мой дом входили с грязными сапогами. И выходили, хлопая дверью.
Он встал, пошёл к двери, открыл её — как тогда, в тот вечер. Обернулся.
— Потому что когда человек приходит, как буря, и уходит, как враг — дом после него уже не прежний. Ни стены, ни люди.
Лида молча смотрела ему вслед. А потом тихо захлопнула за ним дверь. И поставила на стол две чашки. Без слов. Просто — как знак: мы остались.








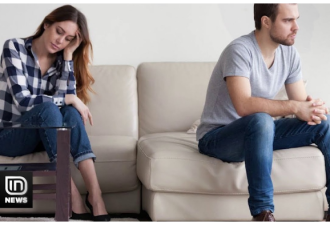








 Наглая сестра
Наглая сестра