— Ты хоть помнишь, зачем ты туда едешь? — Лариса не отрывала взгляда от окна, за которым мокрые тополя переговаривались листвой о чём-то своём.
— Ну что ты начинаешь… — Михаил сел рядом, устало положив папку с документами на подлокотник. — Я всё помню. Не ребёнок.
Лариса хмыкнула, но спорить не стала. В последнее время ей всё чаще хотелось замолчать — хоть с мужем, хоть с сыном. От усталости слова цеплялись за горло, как мелкая рыбья кость.
Миша — старший. Всегда был старшим и всегда должен был. Ключевое слово — «должен». Так мама говорила: «Ты у нас умный, ты у нас всё понимаешь. Ты потерпи, вот вырастет Толя — и всё будет по-честному». Только Толя вырос, а по-честному так и не стало.
— Ты хоть с ней не ругайся, ладно? — Лариса не обернулась, но Михаил только шумно выдохнул.

— Мам, она тебе не родня.
— Всё равно человек чужой в доме. А ты как с ней разговариваешь…
— А как мне с ней разговаривать? Она же у нас теперь хозяйка.
На слове «хозяйка» Михаил сжал зубы так, что Лариса вздрогнула.
Полгода назад отец упал с лестницы в подъезде. Отделался вывихом, но с тех пор ходил с трудом. Миша и Лариса возили его по врачам, искали клиники, договаривались. Толя приезжал раз в месяц с женой — привозил копчёную колбасу и громко шутил в коридоре, как бы отмахиваясь от запаха старости.
А потом появилась эта Кира. Соседка снизу, вдова. Говорила тихо, гладила отца по плечу, варила ему жидкие супы и приносила варенье. Когда Миша увидел, как она поправляет отцу одеяло, ему стало стыдно и тошно одновременно.
— Миш, может, не надо сейчас… — Лариса хотела дотронуться до его руки, но тот отдёрнул локоть.
— Надо, мама. Давно надо было.
Они вышли из подъезда вместе, но на лестничной площадке Лариса остановилась. Она знала: дальше — его разговор. Он — старший, он всегда разгребал, когда отец что-то затевал, а мать разводила руками.
Михаил нажал на звонок, который кто-то недавно заменил на новый — пластиковый, с приятным коротким звоном. На пороге стояла Кира — в домашних тапочках и мятых спортивных штанах. Она улыбнулась Мише так, как будто не понимала, зачем он пришёл.
— Мишенька, заходи, конечно! — Она посторонилась.
— Не Мишенька. Михаил Александрович. — Он прошёл мимо, не разуваясь.
— Ну зачем так… — Кира растерянно провела рукой по волосам.
В комнате пахло пустым борщом и лекарствами. Отец лежал на диване с телефоном в руке, а на столике рядом стояла початая бутылка минеральной воды и свежие мандарины. Миша остановился у дивана, не здороваясь.
— Ты что устроил? — Слова слипались, но голос был ровный. — Объясни, пап.
Отец не отрывал глаз от телефона. Только дёрнул щекой и показал на Кирину спину:
— Она за мной ухаживает. А ты что? Ты же занят.
Миша чувствовал, как что-то горячее подступает к горлу. Хотелось накричать, но слова будто застряли.
— Занят? Ты серьёзно?
— Миша, давай потом. — Кира подняла ладони, как бы закрывая их обоих друг от друга. — Он устал.
— Я тебе кто? — Миша сделал шаг к дивану. — Ты мне кто? А она тебе кто?
В кухне зазвенела чашка. Лариса стояла у порога — слушала всё, хоть и кивала соседке, что мол, «не вмешивайтесь». Кира кивнула в ответ и ушла убирать посуду.
— Ты всё за меня решил, да? Документы подписал? — Михаил выдернул из папки бумагу и швырнул на стол. — Ты завещание на неё переписал? Это правда?
Отец медленно повернулся к нему и первый раз посмотрел прямо. Взгляд был пустой, как чёрное окошко старого телевизора.
— Она за мной смотрит. А ты — ты вечно занят. Толя… Толя молодец. Хоть шутит. А ты всё работаешь да работаешь.
Миша услышал, как мать тихо всхлипывает за его спиной. Но оборачиваться он не стал. Ему казалось — если сейчас обернётся, то уйдёт и больше не вернётся.
— Пап, ты не боишься, что я тогда тоже всё решу сам?
Отец не ответил. Только отвернулся к стене.
Миша стоял в проёме, слышал, как Кира тихо поёт что-то на кухне — то ли напевает, то ли разговаривает с котом. Потом раздался звук ножа по разделочной доске. Всё смешалось: голос матери, запах борща, чужой дом, который был его домом.
Ему хотелось выть от бессилия.
— Ты чего за него цепляешься? — Вечером Миша сидел у Ларисы на кухне. Пахло кофе и сырым подоконником — всё так же, как двадцать лет назад, когда он тайком приходил сюда ночами после ссор с отцом.
Лариса сидела напротив, ковыряя ложкой надколотую чашку. Слова не шли.
— Мам, ты слышишь меня? — Михаил пытался поймать её взгляд.
— Что ты хочешь услышать, Миш? — Она всё-таки подняла глаза. Взгляд был мутный, красный. — Он мой муж. Полвека почти. Ну как? Вот как мне…
— Он тебе что-нибудь оставил? — Михаил усмехнулся. — Хоть копейку?
— Ты думаешь, мне это надо?
— Не тебе. Мне. Толяну. Твоим внукам.
Лариса резко отодвинула чашку, она глухо ударилась о батарею.
— Про Толика не говори. Он тут при чём?
— При том, что ты его вырастила так. — Михаил поднялся, прошёлся вдоль кухонного стола. — Всегда он «маленький», всегда «ему труднее». Теперь вот мы оба взрослые мужики, а он всё «маленький». Ты что думаешь, он тебя спасёт? Придёт и будет за тобой смотреть, как Кира за отцом? Он даже за своими детьми толком не глядит.
Лариса прижала ладонь к лбу:
— Не начинай. Ну хоть ты не начинай…
— Мам, он тебе звонил хоть раз за этот месяц? Я звонил. Я таскаюсь. Я договариваюсь с врачами. Я беру кредиты на таблетки, которые отец не пьёт. Я — старший. Я — должен.
Соседка снизу снова что-то уронила на кухне — звук шёл сквозь вытяжку. Лариса вздрогнула.
— Ты думаешь, я не знаю? — Она заговорила тихо, но каждая фраза была, как удар. — Думаешь, я не вижу, что вы с Толиком разные? Я всё вижу. Только поздно. Он такой потому что я… Я так привыкла. Отец говорил: «Не лезь в мужские дела». Вот я и не лезла. Теперь поздно.
Миша сел обратно, опёрся локтями о стол.
— Тогда хоть сейчас не лезь за него выгораживать.
Они сидели молча. За окном кто-то кричал под подъездом — кто-то что-то не поделил с таксистом. Всё казалось чужим: этот дом, этот подъезд, даже собственная мать напротив — чужая и маленькая.
— Ты думаешь, Кира его правда будет за так ухаживать? Просто так? — Лариса вдруг поднялась и подошла к раковине, но кран не открыла — так и застыла, глядя в тёмное окно. — Я вот думаю: не обманет ли она его. А потом себя одёргиваю: ну какая разница? Всё равно уже всё.
— Есть разница, мам. — Миша говорил упрямо. — Не ей решать, кто в этом доме после него останется. И не Толяну.
Лариса рассмеялась — как-то хрипло, без звука:
— Ну ты-то чего? Ты же всё равно ничего не возьмёшь. Ты ж гордый.
— Я не про вещи. Я про то, что он нас с тобой выбросил, как пустые бутылки. — Голос сорвался. — Я просто хочу, чтоб он это понял.
Лариса не ответила. Села обратно, дрожащими пальцами натянула на колени старый вязаный плед. Когда-то она вязала его для Миши — ещё школьником. Миша вспомнил этот плед у себя на ногах, когда лежал с температурой сорок, а мать спала в кресле и каждый час трогала его лоб.
Они сидели так до ночи. Потом Лариса уснула прямо за столом, а Михаил медленно погасил свет и ушёл в коридор. Там на скамейке ждал Толя.
— Ну чё, ты закончил? — Толя чавкал жвачкой, мотал головой. — Ты ж понимаешь, он старый. Ему всё равно.
— Тебе-то не всё равно? — Михаил кивнул на рюкзак брата. — Чего приехал? Опять мясо привёз?
— Да ладно тебе. Я ж как лучше. Ты чего нервничаешь?
— Ты хоть раз за ним остался бы. — Михаил подошёл вплотную, заглянул в глаза брату. — Хоть ночь. Хоть день.
— А смысл? Есть кому. — Толя пожал плечами. — Чего ты носишься? Ты ж всё равно в итоге ничего не возьмёшь. Ты ж гордый. Ты ж правильный.
Михаил коротко рассмеялся. Слишком тихо, чтобы Лариса проснулась.
— Толян, ты как в детстве. Только теперь ты толстый и бородатый. Но внутри — всё тот же. Маленький.
Толя фыркнул, открыл подъездную дверь и выплюнул жвачку прямо на асфальт.
— Я вот знаешь, чего думаю, брат? — Он обернулся, держа дверь ногой. — Когда он помрёт — ты всё равно всё на меня спихнёшь. И что? Ты же сам хочешь, чтоб я был плохой. Ну вот я и буду.
Дверь хлопнула. Михаил посмотрел, как Толя спускается к машине — свет фар коротко моргнул во дворе. Потом двор снова потонул в темноте.
На лестничной площадке пахло сыростью и капустой — кто-то сушил бельё. Михаил закрыл глаза и на секунду представил: вот бы всё стереть. Вот бы вернуться назад, туда, где отец ещё здоров, мать ещё молода, а он сам ещё верит, что всё можно будет поделить поровну — и дом, и любовь, и спасибо.
Но назад нельзя.
Он вернулся на кухню. Лариса спала, уронив голову на сложенные руки. Михаил сел напротив и долго смотрел, как её плечи чуть заметно вздрагивают во сне.
Михаил шёл по двору в шесть утра — в руках пакет с просроченными документами, которыми так и не успел заняться. По асфальту разбегались пятна дождя. Пахло мокрыми крышами и чужими окнами.
Он шёл туда, куда не хотел идти. Но выбора не было. Потому что Лариса молчала — а значит, будет молчать и дальше. Потому что Толя — Толя снова не брал трубку с ночи.
Дверь открыла Кира — как обычно, в халате и с влажными волосами. Она даже не удивилась.
— Михаил Александрович… Опять вы? — Голос тихий, но в нём что-то звенело — так звенит проволока, когда её натягивают.
— Мне нужно поговорить. — Михаил не спросил разрешения и вошёл.
Отец сидел за столом на кухне, ел творог ложкой прямо из пачки. Увидев сына, он медленно положил ложку и вытянул руку — как будто хотел что-то сказать. Но слов не нашлось.
— Ты что творишь, пап? — Михаил сел напротив, положил пакет с документами рядом с его локтем. — Ты реально думаешь, что она тебе роднее, чем я?
— Она со мной, — пробормотал отец, не поднимая глаз. — Ты занят. Ты всё время занят.
— Я занят тем, чтоб у тебя лекарства были! Чтоб у тебя свет горел! Ты думаешь, Кира платит за твоё электричество? Ты думаешь, Кира тебя к врачам возит?
Кира стояла у двери, сцепив руки перед животом. Она не перебивала. Смотрела так, будто ей это было и приятно, и неловко одновременно.
— Пап, скажи прямо. — Михаил вытянулся над столом, заглянул отцу в лицо. — Ты правда считаешь, что мы тебе чужие? Я и мать?
— Не чужие. — Отец чуть заметно пожал плечами. — Просто… вы всё время спорите. Она молчит. Она мне не врёт. Она добрая.
— Она добрая?! — Михаил рассмеялся. — Добрая?! Пап, у тебя счёт хоть один открыт на себя? Ты знаешь, что она может тебя в дом престарелых сдать завтра — и никто не вякнет?
— Михаил Александрович… — Кира шагнула вперёд, но он поднял руку.
— Молчи. — Михаил глянул на неё холодно. — Вы молодец. Вы всё правильно сделали. Нашли старика, накормили, погладили по голове — и всё ваше. Красиво.
Кира опустила глаза, но не ушла. Отец снова поднял ложку, поднёс к губам, но не съел — просто держал, как будто от этой ложки зависела его остаточная гордость.
— Пап, ты что думаешь? Что я сейчас в суд пойду? — Михаил медленно поднялся. — Да я не пойду. Забирай её себе, пусть с тобой спит, моет тебя, кормит. Только знай: ни я, ни мама больше в этот дом ни ногой. И Толя твой — не жди. Он тебя сдаст быстрее, чем ты думаешь.
Отец выдохнул — коротко, будто воздух кончился. Ложка упала на стол.
— Ты ж гордый… — пробормотал он, почти с жалостью.
— Гордый, — кивнул Михаил. — Гордый.
Он вышел в коридор, хлопнув дверью сильнее, чем хотел. На лестнице встретил старую соседку — та спросила шёпотом, всё ли хорошо. Михаил кивнул и пошёл вниз, перепрыгивая через две ступени.
Он вышел во двор и сел прямо на мокрую лавку. В кармане зазвонил телефон — мама. Он сбросил. Через минуту пришло сообщение от Толи: «Братан, ну ты не кипятись, всё порешаем потом».
Порешаем.
Михаил стёр сообщение, открыл новый чат и начал было писать матери: «Мам, я поговорил», — но передумал. Закрыл мессенджер и просто сидел. Смотрел, как под ногами медленно растекается грязная лужа.
Он думал обо всём сразу: о том, как носил отцу в больницу кефир и газету, как чинил ему сломанный унитаз, как договаривался с соседями, чтоб не шумели ночью. О том, как Толя покупал колбасу и говорил матери: «Ну чего ты паришься, мы же семья». О том, как мать шептала ему в телефон: «Ты у нас надёжный, ты всё сделаешь правильно».
В голове всё крутилась только одна мысль: зачем? Для кого?
Он посмотрел на детскую площадку, где на мокрой качели валялась чья-то игрушка — одинокий пластиковый мишка без лапы.
Михаил опустил голову на колени. Слёзы не шли. В горле стоял комок, который не выходил ни через слова, ни через крик.
Он выдохнул — почти шёпотом, почти беззвучно, так, что услышал только сам себя:
— А мне, как всегда, никто спасибо не скажет?

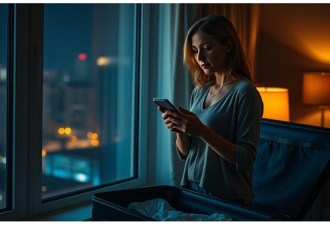















 — Выметайся к маме! Моя квартира, купленная до брака, не станет вашим семейным общежитием.
— Выметайся к маме! Моя квартира, купленная до брака, не станет вашим семейным общежитием.