Я всегда старалась быть удобной. Мама говорила, что я умная — значит, сама всё пойму. А Лёшке — моему младшему брату — и понимать не надо было. Ему всё разжуют, положат в рот и ещё похвалят за то, что глотнул без капризов.
Мне досталась комната в старой хрущёвке с облупленными обоями и кроватью с продавленным матрасом. Лёшке — светлая спальня, где ему поставили новый компьютер «для учёбы», хотя все знали, что он с пацанами рубится в игры ночами. «Ну он же мальчик», — вздыхала мама, когда я что-то пыталась сказать. «А ты девочка, тебе попроще».
Училась я хорошо, поступила сама, без репетиторов. На старших курсах подрабатывала, помогала родителям с коммуналкой. «Ты же у нас самостоятельная», — радостно сообщала мама папе. Тот лишь морщил лоб и гудел что-то невнятное. Его слово в нашем доме было тихим и быстро глохло. Слово мамы — громким и последним.

Когда я закончила универ, сразу съехала. Устроилась в бухгалтерию в маленькой фирме, снимала комнату на окраине. На Лёшкину свадьбу сбросилась — мама с папой тогда просили, мол, «ты ведь сестра, не стыдно ли». Я отправила им почти всю премию — тогда только-только закрыла большой отчёт, и шеф отблагодарил. Мне бы тогда копить на первый взнос за ипотеку, но я не посмела отказаться.
А потом началось по кругу. «Лёшке на ремонт надо помочь», «Лёшке родить — ты понимаешь, коляска сейчас дорогая», «Лёшка переезд затеял — без тебя не справимся». Лёшка — это как отдельный ребёнок у всех нас. Громоздкий, ленивый, любимый.
Иногда я пыталась возмущаться. В кухонной группе с подругами в офисе рассказывала им — смеялись горько: «Ты чего молчишь? Скажи, что хватит!» Я кивала, а вечером снова переводила деньги маме. Потому что мама знала, куда нажать: «Ты хочешь, чтобы брат без кухни остался? Чтобы племянник спал на полу?» И я думала о Лёшкином сынишке, который всегда звал меня «тётя Ксюша» — и не могла отказать.
Когда папа заболел, я приезжала чаще всех. Лёшка был «очень занят». У него вечно стройка, кредит, дети, жена — всё важнее. Я же таскала папе бульон, сидела с ним, убирала. Мама сначала крутилась, потом стала чаще отлучаться — у неё вдруг появилась «помощница», Валентина Петровна из соседнего подъезда. «Хорошая женщина, Ксюша, хоть немного подмогает», — вздыхала мама, наливая мне чай.
Я видела эту Валентину пару раз. Лет шестьдесят, голос уверенный, глаза колкие. Как-то я пришла, а она на кухне режет папе яблоки. «Дочь, да? — спросила меня и кивнула сама себе. — Ну и хорошо». Я тогда ещё удивилась — какое ей дело. Но мама выглядела довольной: «Петровна хоть поговорит с ним, а то я не всегда могу, сама понимаешь».
Я кивала, хотя ничего не понимала.
Папе стало хуже. Он всё реже говорил — только смотрел на меня, когда я садилась рядом. И будто хотел что-то сказать, но сил не было.
Однажды я спросила у мамы, почему не вызвать сиделку из агентства — вдруг Валентина плохо справляется. Мама фыркнула: «Ты хочешь чужую тётку? Петровна — почти как родная. Не умничай».
Потом папа умер. Быстро. Я пришла, когда его уже увезли. В квартире пахло лекарствами и сыростью. Лёшка сидел за столом, ел борщ. Валентина Петровна мыла посуду. Мама сидела напротив брата, тихонько ему что-то нашёптывала.
Я стояла в дверях кухни и вдруг поняла: мой отец ушёл, а я даже не знаю, что он пытался мне сказать в те последние дни. И уже не спрошу.
Похороны прошли быстро, без криков и истерик. Лёшка на прощании стоял с телефоном в руке — то ли по работе, то ли для видимости важности. Его жена, Маргарита, носилась с подносами, гремела ложками, всем рассказывала, какой тяжёлый был год и как они с Лёшкой устали.
Я сидела напротив мамы и смотрела, как она спокойно ест пирог с картошкой. На кладбище она не проронила ни слезинки. Только строго кивала, когда кто-то подходил выразить соболезнования.
После поминок все разошлись быстро. Лёшка с Ритой первыми. «Ксюх, ты там поможешь маме? Нам к детям, извини», — сказал он и уже одевал куртку.
Я не возражала. Осталась ночевать в папиной комнате — та самая старая хрущёвка, где всё осталось так же: мои школьные тетрадки, Лёшкин разбросанный хлам. В углу стоял маленький телевизор с облезлыми кнопками — папа смотрел его до последнего.
Утром я проснулась от голосов. Мама говорила с Валентиной Петровной на кухне.
— …как договаривались. Всё честно.
— Ну, я ведь и не сомневалась, — отозвалась Петровна и засмеялась своим тихим, скользким смешком. — Я ж говорю: у тебя дети хорошие, но занятые. А кто рядом был?
Я не выдержала, вышла к ним.
— Мам, что происходит?
— Ксюша, ты чего? Иди умойся, потом поговорим.
Но я уже не могла просто уйти. Я вдруг заметила на столе какие-то папки, ручку, старую нотариальную папку с зелёным краем. Валентина Петровна спрятала её в сумку так ловко, что я бы и не заметила — но глаза у неё смеялись. Ей было весело.
— Что ты ей подписала? — спросила я у мамы. Голос предательски дрожал.
— Не твоё дело, — отрезала мама. — Ты не лезь. Ты своё получишь.
Я молча собрала вещи и уехала. В автобусе у меня тряслись руки. Подруге, Оле из офиса, рассказала только вечером. Она только фыркнула: «Ксюх, да плюнь ты на них. Ты всю жизнь в их долгах. Теперь, может, свободней станешь».
Но я не могла. Я не понимала — что именно подписали? Зачем? О чём договаривались за моей спиной?
Через неделю позвонил Лёшка.
— Ты чего маму довела? Она мне плакалась весь день!
— Что ты несёшь? — устала сказала я. — Что там с квартирой? Что за бумаги?
— Ты всегда всё усложняешь, — Лёшка говорил вяло, но в голосе слышалась привычная обида. — Мама всё правильно делает. Валентина помогла. Ты же не собиралась сюда возвращаться? Вот и не мешай.
— В смысле — «сюда»? Это папина квартира.
— Да что ты зациклилась на этой халупе? Мы с Ритой уже дом почти достроили, а мама хотела спокойно жить — вот и всё. Ей так спокойнее.
— Лёш, ты понимаешь, что ты говоришь?
— Всё ты понимаешь. Просто привыкла — всё твоё. Теперь не твоё, вот и всё. Ладно, не кипятись. У меня встреча.
Он повесил трубку, не дослушав.
Я взяла выходной, сходила в юридическую консультацию. Юрист покачал головой: если дарственная, если доверенность — оспорить будет тяжело. «А вы подписи проверяли?» — спросил он. «Нет», — ответила я. Мне даже в голову не пришло, что могут что-то подделать. Я знала маму — она не пойдёт на обман. Но она найдёт, кто сделает всё «честно», а потом скажет, что всё было правильно.
Я звонила маме — она сбрасывала. Лёшка не отвечал вовсе.
Я снова поехала туда. В подъезде на лестнице сидела Валентина Петровна, гладила своего кота в переноске. Увидела меня и ухмыльнулась.
— Что, доченька? Опоздала.
— Ты кто вообще такая? — выдохнула я.
— Я та, кто была рядом, когда твой отец кашлял кровью. Где ты была? На работе? Ну и работай дальше. Молодец же ты у нас. Независимая.
Она поднялась, поправила воротник и прошла мимо. Кот шипел на меня из сумки. Дверь за ней хлопнула.
Я стояла посреди лестничной клетки и понимала, что мне некуда стучаться. За этой дверью всё ещё мои школьные дневники, папины книги с закладками. Но теперь там хозяйка — чужая женщина, которой я даже не могу сказать «уйди».
После той лестничной клетки у меня случилась первая за много лет бессонная ночь. Я лежала в своей съёмной комнате — чужая мебель, чужие стены. Рядом телефон мигал уведомлениями: Лёшка сбросил в чат очередные фото своей стройки. Рита — видео, где их младший играет с новым щенком. Подпись: «Скоро будем жить на своём!»
Своё. Своё у них. Моё — это что? Моя работа? Моё — это сберкнижка, в которой скопилось достаточно, чтобы если сильно ужаться — может быть, через два года взять ипотеку на угол. Моё — это десятки отчётов, лишние смены и отпуск, который я снова не возьму. Потому что кто, если не я.
Я отключила звук и смотрела в потолок. Почему я всегда была «сама разберусь»? Почему не рвала волосы на голове, не топала ногами, не кричала, что мне тоже что-то нужно? Почему папа молчал?
Через пару недель мама сама набрала меня. Голос был тихий, почти ласковый.
— Ксюша, ты чего такая злая? Ты ж всегда у нас хорошая была.
— Мама, что ты сделала с квартирой? — я перебила её, даже не поздоровавшись.
— Да всё для спокойствия. Валентина Петровна теперь при нас. Если что — поможет. Ты ж не приедешь ко мне сидеть?
Я молчала. Она услышала моё молчание и тут же добавила:
— Ты всё равно там себе наработаешь. Кому эта хрущёвка нужна? Зато теперь всё честно.
Я вдруг услышала на заднем плане Лёшкин голос — он смеялся с кем-то по телефону. Он был там, у неё на кухне.
— Мама, ты же знаешь, что это неправильно.
— А ты что хотела? Чтобы всё тебе? Лёшка ж без угла останется. Ему ж дом надо доделать.
— При чём тут Лёшка?! Ты Петровне всё отдала.
— Не всё! Там договор, Ксюша. Всё для нашего спокойствия.
Её «наше» звучало так, будто меня внутри не было.
Через месяц я снова приехала. С пустыми руками, без звонка. Просто встала перед дверью и подождала, когда откроют. Открыла Валентина Петровна. На ней был мамин старый халат — с синими цветами, в которых я когда-то прятала шоколадку от Лёшки.
— Ты всё ходишь, ходишь, — сказала она устало. — Иди лучше. Зачем тебе эта морока.
Я прошла мимо неё в коридор. Мама сидела в зале и листала какой-то журнал. Телевизор гремел кулинарным шоу. Она подняла глаза, увидела меня и медленно кивнула.
— Ну что тебе надо, Ксюша? — спросила спокойно.
— Ты всё продала? Всё подписала?
Она засмеялась тихо — так, как я не слышала никогда.
— Ты что, думала, мы тебе квартиру оставим?
И больше ничего не сказала.
Я стояла в дверях зала и видела, как Валентина Петровна наливает ей чай в мою старую кружку с жёлтыми полосками — ту, что я привезла из студенческого общаги, когда всё ещё надеялась, что у нас всё будет «семья». Я смотрела на этот чай, слышала смех Лёшки по телефону в соседней комнате и вдруг поняла, что не хочу больше быть «удобной».
Я развернулась и вышла, не закрыв за собой дверь. На лестнице пахло кошачьим кормом. Я спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Автобус на остановке уже уезжал — я не побежала.
Я знала только одно: мне больше нечего отдавать. Пусть теперь сами.
Так и осталась стоять у дороги, слушая, как где-то за домами лает Лёшкин пёс. И думала: а что теперь? Только бы не свернуть обратно — не сказать «да ладно, я всё равно помогу». Я стояла и пыталась поверить, что могу развернуть всё иначе. Хотя бы теперь.
А внутри ещё звучало: Ты что, думала, мы тебе квартиру оставим?


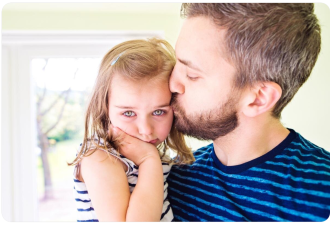














 — А я отчетливо помню лицо твоего мужа, склоненное надо мной (2)
— А я отчетливо помню лицо твоего мужа, склоненное надо мной (2)