Если бы Паша мог отмотать жизнь назад, он бы не стал спорить с женой той весной. Когда Аня спросила: «А если мама у нас немного поживёт? У неё с жильём неразбериха…», он, вместо того чтобы поинтересоваться, что за неразбериха, пожал плечами и сказал: «Ну, пусть живёт».
Он не знал тогда, что «немного» — это растяжимое понятие. И что жить с тёщей — это как спать на раскладушке: вроде и место есть, но расслабиться невозможно.
Первую неделю он держался. Она вела себя тихо, только просилась на их стиральную машину — «свои-то сломались», — и заваривала какой-то отвратительный травяной чай, от запаха которого мутило. Потом пошло-поехало.

Сначала она убрала с кухни всё «лишнее» — включая его любимую турку, ножи и подставку с приправами. Потом в ванной появились три её крема и два полотенца, но своё Анино куда-то исчезло.
— Неудобно же, — говорила она, укладывая свои пижамы в ящик его стола, — всё под рукой должно быть.
Аня смотрела на это виновато и ничего не говорила. Паша пытался намекать:
— Может, маме всё-таки удобнее было бы у твоей тётки? Или у Лёшки на даче?
Аня виновато улыбалась:
— Ну, ей же тяжело туда-сюда. У нас пока поживёт…
Они съехались год назад, в новой двушке на окраине. В ипотеку, конечно. Паша работает на фрилансе, но заказов хватает. Аня в офисе, у неё переработки и дурацкий начальник, так что быт тянет в основном он. Его вполне устраивало: варил, убирал, даже по вечерам гладил рубашки. Пока не пришла она.
— Зять, ну не смеши. Что это у тебя за картошка? Она даже не солёная! — смеётся тёща, садясь за стол.
Он молчит.
— Ты сковороду на огне оставляешь? А вдруг ребёнок полезет? — продолжает она, уже в другой день.
Ребёнку два года, он даже до ручки дотянуться не может. Но Паша молчит. Он всё больше молчит в этом доме.
Он замечает, что перестал оставлять телефон на зарядке в общей комнате. Не потому что боится, а просто — не хочется, чтобы она его трогала. Он вообще стал всё больше запираться в спальне.
На третий месяц её пребывания они с Аней почти не разговаривают. Всё время кто-то третий в доме. Посторонняя энергия, запах её духов, вечный плед на диване, крошки от её булочек на кресле, даже чашки — она пьёт из больших, цветастых, как будто всё время подчёркивает: «Я здесь надолго».
В воскресенье Паша услышал, как она говорит соседке по телефону:
— А что? Я же им экономлю! Я дома — им няня не нужна, уборщицу не надо. Я вообще зятя от лени спасаю. Аня приходит — хоть нормальную еду ест.
Он зашёл на кухню — та замолчала. Он посмотрел на неё — она спокойно доливала чай. Улыбнулась даже:
— Ты чего, Паша? Бледный. Не заболел?
И тогда в нём что-то хрустнуло.
— Я в порядке. Но, кажется, у нас тут кто-то задержался.
Она посмотрела мимо, аккуратно положила ложку.
— А я думала, мы семья.
Вечером Аня сказала:
— Ты перегнул. Мама просто старается. У неё трудный период. Ты не мог бы быть мягче?
— Я уже стал невидимым. Дальше что — уйти из квартиры?
— Паш…
Он ушёл спать в зал. Там теперь её плед, её диванная подушка и пахнет её духами. Но он лёг и лежал. Слушал, как они с Аней говорят за дверью — полушёпотом, но достаточно громко, чтобы он понял:
«Он должен быть благодарен, что я вообще пришла…»
Паша думал, что их брак — это он и Аня. Но теперь всё чаще чувствовал: третий человек в их семье — самый главный.
И этот человек начинает всё диктовать. Даже когда в комнате его нет.
Паша никогда не считал себя вспыльчивым. Он мог промолчать, отойти, переключиться. Но с тех пор, как тёща поселилась у них, его терпение истончалось, как старая простыня — до дыр.
Он начал работать в кафе. Просто брал ноутбук и уходил туда на весь день. Не потому что дома мешали — просто невыносимо было дышать её присутствием.
— Опять по кафешкам? — ехидно бросала она, когда он возвращался. — А дома поработать — не судьба?
— Дома нет спокойствия, — отвечал он, не глядя.
— Ну да, как будто в кафе ты ума набираешься.
Аня делала вид, что ничего не замечает. Она давно уже не вставала на чью-либо сторону. Утром выходила рано, возвращалась поздно. Вечно уставшая, вечно с телефоном. Иногда, глядя на неё, Паша ощущал острое одиночество — будто он один живёт в этом доме. А иногда ловил себя на мысли, что жалеет: зачем вообще женился.
Всё обострилось после одной субботы. Он пошёл в ванную и обнаружил, что исчез его шампунь и гель для душа.
— Мам, ты случайно не выбросила мой гель? — спросил он сдержанно.
— А что ему лежать, если он почти пустой? Я купила нормальный — на полке стоит.
— Мне не надо другой.
— Да ну, Паш, не цепляйся к мелочам. Этот тебе даже больше подойдёт. Я его сама тестировала.
Он сжал зубы. Маленькое, бытовое — но это было уже не в первый раз. Всё, что было его, стиралось из дома, будто его и не было.
Он собрал остатки своих вещей и пошёл в аптеку. Возвращаясь, увидел, как тёща копается в его сумке с техникой.
— Я просто искала плед, — оправдывалась она. — У меня спина болит, ты ж знаешь. А тут так неудобно.
Плед в его рюкзаке. Фотоаппарат рядом. Он молча забрал сумку и ушёл. Даже не поднял голос. Он боялся, что если начнёт говорить, то закричит так, что больше не сможет остановиться.
Паша всё чаще ночевал у своего друга Виталика. Тот развёлся два года назад, снимал студию и искренне радовался, что теперь никто не трогает его пульт от телевизора.
— А ты с ней поговорил? С Аней? — спрашивал он.
— Она не слышит. Она всё через мать фильтрует. У нас теперь как тройной NAT — до истины не докопаешься.
Но финальной точкой стало не это. А обычный вечер, с блинами и банальным семейным советом.
— Мы подумали, — начала Аня, не глядя в глаза, — может, ты пока поживёшь у друга? Просто чтобы чуть остыть…
— Мы?
— Ну… мама права. Ты напряжён, раздражительный. Это влияет на ребёнка. Он же всё чувствует.
Паша почувствовал, как у него отнялись руки.
— Это я мешаю. Понятно. То есть мне, хозяину квартиры, стоит уйти, чтобы удобно было вашей маме?
— Да не в этом дело… Просто… так будет спокойнее.
Он посмотрел на неё. Она не встречала взгляда.
Тёща стояла у плиты и еле сдерживала улыбку. В этот момент он понял: его место в этой семье уже определено. И это — за дверью.
Он ушёл.
Пожил неделю у Виталика. Потом снял маленькую студию на севере. Деньги — не проблема. Проблема — дыра внутри. Он не скучал по Ане. Он скучал по тому, что было раньше. До того, как эта женщина в домашнем халате с запахом мятного крема начала править его жизнью.
Они с Аней виделись пару раз — сухо, по делу. Ребёнка он забирал в парк. Мальчик смеялся, как всегда, и звал домой.
— У нас теперь у бабушки новая пижама с мишками, — гордо сообщал он. — А мама всегда занята.
Через пару недель Аня пришла к нему сама.
— Мам нужно уехать, — сказала она, сжав пальцы. — На пару дней. Можно я… у тебя поживу?
— Ты не хочешь домой?
— Я не могу. Там… как в банке. Давит.
— Так поговори с ней.
— Ты же знаешь. Это бессмысленно.
Они молча ели пиццу. Без телевизора. Без чьих-то замечаний. Без шуршания тапочек в коридоре. Просто тишина.
— Может, мы ещё сможем? — спросила она вдруг.
Он посмотрел на неё. Уставшую, с тёмными кругами под глазами, будто постаревшую за эти месяцы.
— Пока там твоя мама, у нас шансов нет.
Она кивнула. Медленно, как будто поняла это впервые.
Аня уехала домой на следующее утро. Без слов. Без объяснений. Просто написала: «Спасибо за ночь. Я подумаю».
Паша не ждал. Он больше ничего не ждал. Он снова стал спать спокойно, стал возвращаться в своё тело. Пропали головные боли. Вернулась способность дышать полной грудью. Он стал больше работать. И вдруг понял, что больше не живёт в ожидании, что кто-то постучит в дверь и принесёт за собой чужой плед, чужие правила, чужое ощущение «правильной жизни».
Они не разговаривали две недели. Потом Аня позвонила:
— Мама хочет поговорить.
— Пусть говорит. Только не у меня.
Она всё-таки пришла. Вечером, в пятницу. С чемоданом.
— Мы с Аней разошлись во мнениях, — сказала с порога. — И я решила уйти.
— И пришли ко мне?
— Ну а куда же ещё? Вы же семья.
Он не знал, смеяться или плакать. Она спокойно сняла пальто, поставила сумку у стены.
— Аня, конечно, упрямая. Но, надеюсь, ты сможешь её вернуть к разуму. У неё кризис. Ты — муж. Тебе и разруливать.
Он налил себе воды, выпил, не глядя на неё.
— Я не вожу к себе посторонних.
— Посторонних?
— Вы же сами меня из семьи выгнали, помните? Теперь я не зять. Просто человек со стороны.
Она вспыхнула:
— Вот что ты несёшь! Я же пришла по-человечески. Ушла от дочери, потому что там стало невозможно. Она вообще не слушает! Целыми днями молчит, обвиняет. Как будто это я во всём виновата!
Он подошёл к двери, распахнул её.
— Вам с чемоданом не ко мне.
— Паша, ты что… Ты хочешь, чтобы я ночевала на улице?
— Я хочу, чтобы вы поняли. Вы развалили наш брак. Вы влезли в чужую жизнь и перестроили её под себя. А теперь хотите жить у того, кого вытолкали.
Она застыла. Потом медленно подняла сумку.
— Ты думаешь, зачем я сюда с чемоданом пришла? — устало вздохнула она. — Потому что моя дочь меня выгнала.
— Нет, — сказал Паша тихо. — Потому что вы наконец-то остались наедине со своей властью. И поняли, что с ней нельзя жить.
Она стояла ещё минуту. Потом ушла.
Через день Аня снова появилась. Без звонка. Без предупреждения.
— Я хочу, чтобы ты вернулся, — сказала она. — Мама сняла комнату. Я не знаю, надолго ли. Но мне всё равно. Я больше не могу так.
Паша смотрел в окно. Улица была пустая, моросил дождь.
— А почему я должен возвращаться?
— Потому что я люблю тебя, — прошептала она.
Он долго молчал.
— Ты уверена, что это ты? А не она — через тебя?
Аня опустилась на пол, села прямо у стены.
— Я устала. Я знаю, что была слабой. Я боялась, что если не слушать маму — она уйдёт, заболеет, не простит. Я выросла под этим страхом. И не заметила, как начала жить не своей жизнью.
Он подошёл, сел рядом. Тихо. Без слов. Просто рядом.
Через пару недель он вернулся. Постепенно. Осторожно. Без фанфар.
Тёща больше не появлялась. Но звонила. Часто. И по-прежнему жаловалась: на жизнь, на дочь, на здоровье, на цены. Только теперь Аня слушала и клала трубку без истерик.
— Хочешь, скажу странное? — как-то сказала она вечером, сидя с ребёнком на полу. — Я впервые чувствую себя взрослой.
Паша кивнул.
Он знал: всё может снова поехать под откос. Но у них появилось главное — граница. Чёткая, ощутимая. Пусть хрупкая, но их собственная.
И он тоже впервые за долгое время почувствовал себя мужем. Не только человеком с ипотекой. Не только папой. А тем, кто может быть в семье — и быть услышанным.
А чемоданы…
Пусть теперь будут там, где им и место. В прихожей. На выход.




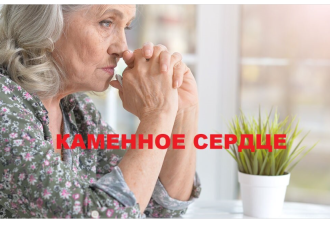



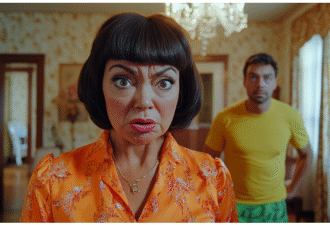








 Лариса мечтала сдать пасынка в детдом, но поступила по-другому
Лариса мечтала сдать пасынка в детдом, но поступила по-другому