— Сдавайся уже, — смеётся Егор, бросая мяч в наш перекошенный деревянный щит во дворе. — У тебя руки короткие.
Я вытаскиваю мяч из кустов сирени и молчу. Тогда мы ещё дети: мне двенадцать, ему почти девять. Отец щёлкает семечки на лавке, мать болтает с соседкой Зоей про стиральный порошок. Я оборачиваюсь — они смотрят не на меня, на него. На его улыбку без одного резца и коленку в зелёных разводах. Я перебираю пальцами край футболки и снова подаю мяч. Егор промахивается, но его хвалят.
Тогда я впервые понимаю простую вещь: если я стараюсь — это норма; если старается Егор — это подвиг.
Школа, олимпиада, медаль. Мать протирает из серванта бокалы, говорит соседке:
— Оля у нас старательная. Но это, знаешь, характер. Родилась такая. А вот с Егором как с огнём: то вспыхнет, то погаснет; талантище, только к нему подход нужен.

Подход — это значит, что меня просят с ним делать уроки, а когда он приносит четвёрку по геометрии, отец снимает с полки коньяк и звонит дяде Коле: «Наш подал надежды!» Когда я выигрываю городской конкурс сочинений, на кухне никто не обсуждает мою работу — обсуждают, как бы Егор пошёл в футбольную секцию, и хватит ли денег на бутсы.
— Поможешь брату — и тебе зачтётся, — шепчет мать, отметая мои слова, что я тоже хотела бы в «Литературную кухню» при ДК.
Университет. Я поступаю сама, без репетиторов. Егор заваливает второй экзамен, и в доме начинается мобилизация. Тётка Лена достаёт телефоны «нужных людей», отец устраивает совещание: «Надо искать платное отделение. На год. Потом переведётся». Я держу в руках договор на общежитие и пачку кипячёных справок, а мать отталкивает мою папку локтем:
— Оля, у тебя государственное, стипендия. Ты не пропадёшь. Давай подумаем, как брату помочь.
— Это его экзамены, — говорю. — Он сам не готовился.
— Ты же видела, как он переживал, — мать закусывает губу и качает головой. — Он же мальчик. Мальчики так устроены: им нужна поддержка.
Я брошу подрабатывать, отдам свою заначку на первый семестр Егору. Мы поедем втроём — я, мать и Егор — в тот частный институт, где на ресепшене у женщины с фиолетовой помадой стоит пластиковый фикус. Мать шепчет мне: «Заплати сейчас, чтобы скидку не потерять». Я улыбаюсь вежливо, подписываю договоры на рассрочку. Вечером отец скажет: «Выручила брата — умница. Я всегда знал, что на тебя можно положиться». Я смеюсь и в первый раз слышу, как во мне что-то трескается, как лёд в мартовской луже.
В общежитии мои кружки — из стекла, тонкие, а ложки — разномастные. Я учусь, пишу тексты для местной газеты, к вечеру считаю мелочь в кармане пуховика. На стипендию куплю себе дешёвые ботинки — скрипят, но не промокают.
Егор присылает фото из нового спортбара: «Сеструх, мы с пацанами! Спасибо!». Мать звонит: «Ты бы ему куртку взяла? У него молния сломалась». Отец добавляет: «Если не трудно, Оль, у тебя же там отдельная комната. Поставь на балконе ящик инструментов — Егор заедет заберёт. И кстати, не забывай: семейное — значит общее». Я затягиваю шарф, выглядываю на мокрые крыши, закрываю окно и ставлю на балконе чужой ржавый ящик. Ночью он стучит по батарее, когда дует ветер.
Работа. Я ухожу из газеты в агентство, меня хвалит руководитель: «Оля, ты собираешь сложные брифы в срок. На тебе проекты не провисают». Я ржу над этим словом «не провисают», как над старой верёвкой на даче. Дома, у родителей, теперь часто «советы». Съезжаются: тётка Лена, дядя Коля, Зоя-соседка, иногда кузина Алёна, чтобы «объективно глянуть». На столе — селёдка под шубой, пластиковый салатник с оливье, пышка хлеба на краю. Посреди — Егор, улыбается, вытирает руки об салфетку.
— Надо помочь Егору с машиной, — говорит отец, потерев нос. — Без машины на объект не доберёшься.
— Мы же уже помогли с учёбой, — аккуратно кладу вилку, чтобы не звякнуло. — Я же отдала… Помнишь?
— Это ж одноразово было, — мать делает круглые глаза. — Ты же тогда сказала: «Ничего, мам». А машина — это уже инвестиция. Игорь Петрович говорит, что если на вахты ездить — можно в год отдать половину.
— Кредит можно на Олю оформить, — бросает тётка Лена так, будто предлагает забрать с собой контейнер с винегретом. — У неё белая зарплата. Ей и дадут. А Егору — не факт.
— Почему на меня? — я подаю голос, но уже вижу, как Зоя кивает: «На тебя, тебе проще». Дядя Коля подливает всем чаю, никто не смотрит на меня. Мать вытирает нож, говорит тихо: — Ну ты же старшая.
Ещё один договор, ещё одна подпись. Ставлю, рука не дрожит — дрожать у меня нет права, я «надёжная». Егор в тот же день выкладывает сторис: «Своё первый корч!» — и фото с новеньким номером, где отражаюсь я: маленькая, в синем пальто, как смазанный блик.
У Маринки, коллеги, вечно прорезной голос и для меня — чай без сахара. Мы сидим у неё на кухне, пар идёт из чашки, за окном вечно ремонтируют трамвайные пути.
— Ты понимаешь, что это ненормально? — она смотрит на меня, как на ребёнка, который ходит по карнизу. — Ничего, что я так прямо?
— Я и сама понимаю, — терпеливо отвечаю. — Но там все так живут. Там нельзя по-другому.
— Можно, — она откидывается на спинку стула. — Просто больно. Но можно.
Звонок. Мать. Я беру трубку, на автомате улыбаясь:
— Ага, мам. Привезти одеяло? Да конечно. И за Егорову коммуналку перевести? Ну да… Да, денег хватит. Нет, не холодно, я в тёплом.
Маринка закрывает глаза и сжимает кулаки. Потом аккуратно, как хирург, произносит:
— Ты живёшь чужой жизнью.
— Я живу семейной, — отвечаю, и у меня внутри щёлкает тот же мартовский лёд.
Через год у родителей крыша течёт. Отец звонит:
— Надо скинуться, управляйка тянет. Егор у нас в командировке, не успевает. Ты переведи сейчас, а он потом отдаст. Он сказал.
Егор «отдаст» — я слышала это сто раз. «Потом», «чуть позже», «как только закрыть объект». Я перевожу. Отец благодарит. Мать вечером пишет: «Ты у меня золото».
В это же время у меня заканчивается договор аренды, хозяйка поднимает плату. Я хожу по объявлениям: тараканы, линолеум пузырями, чугунные батареи с заплатами. Агент с холодными ладонями уговаривает:
— Молодая, симпатичная, без детей — вам везёт, вас возьмут быстро.
Я думаю, что «везёт» — чужое слово из чужого словаря. Я снимаю маленькую однушку у кольца, в которую влезает только диван и столик. Мне хватает.
Семейный чат в мессенджере похож на командный пункт. Мать пишет: «Завтра в шесть — семейное собрание. Кто опоздает — тот моет посуду». Дядя Коля ставит смайлик с поднятым большим пальцем, Зоя шлёт печенье «юбилейное».
Я прихожу к шести. На столе — компот, пирог с капустой, тарелка с нарезанными яблоками. Мать суетится: «Садитесь, садитесь». Отец кашляет, Егор запоздало заходит, волосы мокрые после душа, от него пахнет сладким шампунем. Он усаживается напротив, кивает:
— Ну что, поехали.
— Речь пойдёт о жилье, — начинает отец. — У нас скоро приватизация, надо решать, на кого, в каких долях.
— На всех поровну, — автоматически отвечаю и встречаю чьи-то усталые ухмылки.
— Оля, — мать смотрит прямо на меня, — ты же снялась по собственному желанию лет пять назад. Ты уже устроилась, у тебя своя жизнь. В квартиру фактически вложился Егор — он делал ремонт на кухне, помнишь? И плиту купил.
— Плиту купили на общую… — начинаю, но тётка Лена уже машет рукой:
— Давайте без бухгалтерии.
— Я в этой квартире выросла, — говорю спокойно. — И я всегда здесь была «на подмене», когда всем надо — прибежать, закрыть, привезти. Если уж делить — то честно.
— Ты агрессивная стала, — упрекает Зоя-соседка, разламывая пирог. — Раньше мягче была.
— Я не агрессивная, я устала. Я устала быть взрослее всех нас.
Мать вытягивается, делает паузу, как перед важной репликой на сцене:
— Мы думали, — говорит она. — Лучший вариант — оформить основную долю на Егора, чтобы он мог взять ипотеку на расширение. Ты живёшь одна, тебе проще.
— Мне проще платить за всех? — спрашиваю.
Тишина. Отец откашливается. Егор протирает экран телефона краем футболки. Мать, опустив глаза, добавляет:
— Это не навсегда. Мы просто попросим тебя поручителем.
Я смеюсь как-то хрипло. Маринка у меня в голове улыбается безрадостно: «Больно, но можно». Я понимаю, что всё идёт по старому маршруту: я — поручитель, деньги — общие, ответственность — моя.
— Я не буду поручителем, — говорю. — И доли делим поровну.
Егор вскидывает глаза:
— Ты чего? Мы же семья.
— Семья — это не когда одна пашет и молчит, — я чувствую, как пальцы вцепились в край стола. — Это когда все несут, а не один.
— Ты сейчас публично на брата наезжаешь, — шипит тётка Лена. — Позор какой. Люди услышат.
Люди и так слышат — стены тонкие. За стеной кашляет ребёнок, сосед наверху двигает табурет.
Отец резко встаёт:
— Всё! Никаких наездов. Мы потом обсудим.
— Нет, — говорю. — Давайте сейчас договоримся: поровну, без поручительств. Я могу помогать, когда смогу. Но не на бумаге и не под угрозу своей жизни.
Мать тихо плачет. Егор пожимает плечами:
— Зажалась, Оля. Я же потом отдам.
— «Потом» — это слово, которого я уже боюсь.
Мы расходились поздно. Я захлопнула калитку, прошла мимо сирени, в которой когда-то искали мяч. Воздух пах пылью и чем-то сладким, липким, как детская газировка. На перекрёстке мне позвонила Маринка:
— Ну?
— Я сказала «нет».
— Держись, — шепчет она. — Это только начало.
На работе меня повышают до руководителя проекта. Коллеги хлопают, шеф жмёт руку. Вечером — цветы на столе, открытка: «Ты та, кто всегда держит». Я смеюсь: «держит» — как табурет, как дверь, как чужой договор. Я беру шампанское на распродаже, звоню матери:
— Приедешь? Посидим у меня, отметим?
— Сегодня не получится, — материнский голос усталый. — Егор попросил отвезти его на дачу, там пожарную инспекцию назначили, он волнуется.
— Ладно, — говорю. — В другой раз.
Я снимаю фольгу с горлышка одна, ставлю два бокала — привычка — и всё равно наливаю в один.
Через месяц мать пишет: «Егор заболел, температура, помоги с лекарствами». Я отвожу лекарства, смотрю, как он лежит на диване в родительской комнате, поверх одеяла — куртка, на столике — коробка пиццы. Мать шепчет на кухне:
— Он же нежный. Он по виду крепкий, а внутри — как котёнок.
— Матери котятам тоже иногда дают учиться пить из миски, — отвечаю, удивляясь своим словам.
Мать морщится:
— Ты стала жёсткая. Это от твоей Маринки?
— Это от тишины в моей квартире.
— Тишина — страшная вещь, Оля. От неё люди ожесточаются.
Я ухожу, оставляя на холодильнике чек: «Антибиотики, сироп, витамин С». Вечером Егор шлёт смайлик с бицепсом: «Спасибо!»
На корпоративе я знакомлюсь с Ильёй из соседнего отдела. Он смеётся над моими историями про клиентов, предлагает кофе. «У тебя взгляд взрослый», — говорит он. «Мне двадцать девять», — отвечаю я. Мы встречаемся несколько раз, у него мягкие ладони и привычка оставлять мелочь в кармане куртки. Я почти забываю смотреть на телефон каждые десять минут — почти.
На четвёртой встрече звонит мать:
— Ты где? Нам надо обсудить важное. Серьёзно важное.
Я вздыхаю, извиняюсь перед Ильёй, еду. В квартире — весь совет. На столе — салат «Щётка», пирожные, чайник шумит.
— Егор решил открыть мастерскую, — объявляет отец. — Там знакомый сдаёт помещение, надо срочно задаток. Мы с матерью отдали, что могли. Ты добавь. И — да, снова поручитель.
— Пап, — говорю, — пожалуйста. Я не тяну чужие риски. И я не подпишу.
— То есть ты против развития брата? — роняет тётка Лена.
— Нет. Я против того, чтобы всё снова на меня. Я могу дать немного денег без долговых расписок и без поручительств, если надо прямо сейчас. Но…
— «Немного» — это сколько? — поднимает голову Егор. — Мне вечно твоих «немного» не хватает. Ты же не бедная.
— Я не обязана обеднеть, чтобы ты был доволен.
Тишина длинная. Отец смотрит в стену. Мать мнёт салфетку. Зоя шмыгает носом: «В наше время сестры братьев поддерживали. А сейчас — эгоизм сплошной».
Я поднимаюсь:
— Мне пора.
— Конечно, — мать сухо. — У тебя же теперь личная жизнь.
Слово «личная» звучит как упрёк, как обвинение.
На лестнице меня догоняет Егор:
— Сеструх, я же не враг тебе. Это всё из-за тебя так сложно. Ты всегда умнее была — и от этого всем тяжело.
— Это не я усложнила. Это правила, по которым вы привыкли жить.
Он пожимает плечами:
— Ладно. Смотри сама. Мы без тебя справимся.
Я иду, держу перила и думаю: было бы неплохо однажды действительно «без меня».
Через неделю Илья зовёт меня к себе. На столе пицца, в вазе — хризантемы. Мы смотрим старое кино, он говорит:
— Я рад быть рядом. Но у тебя всегда кто-то важнее. Как будто у тебя внутри телефон, который не отключается.
— Это семья, — отвечаю автоматически. Потом добавляю: — Я пытаюсь менять настройки.
— Я могу подождать. Но не бесконечно, — он не угрожает, он просто говорит.
Мы сидим молча. Я понимаю: дальше что-то придётся выбирать.
Ночью мне пишет мать: «Завтра в десять — ещё одно собрание. Очень важное». Я ставлю будильник. На кухне у родителей пахнет кипятком. Отец разложил бумаги.
— Мы оформили приватизацию, — говорит он и кашляет. — На троих. Но… — Он переводит взгляд на мать.
— Но надо подписать согласие на ипотеку под залог квартиры, — заканчивает мать. — Банк требует. Иначе Егору не дадут. Он же начал уже мастерскую, и расходы…
— Я не подпишу, — говорю.
— Оля, — отец повышает голос. — Не доводи.
Егор молчит, смотрит в телефон. Тётка Лена шепчет: «Вот и вскрылись». Зоя кивает.
— Я не подпишу, — повторяю. — И давайте перестанем делать вид, что это «временное». Это — система.
— Какая ещё «система»? — мать раздражённо. — Это семья!
— Семья со своими правилами. По ним старший обязан. А младшему можно всё. И крайняя всегда одна.
Отец долго смотрит на меня. Потом говорит:
— Значит так. Без твоей подписи мы не справимся. Подумай.
Я встаю:
— Я уже подумала.
Выходя, я слышу, как мать шепчет кому-то по телефону: «Не знаю, что с ней. Как подменили».
Я закрываю дверь и ловлю себя на том, что в груди пусто и тихо. Но это — тишина, которая не ожесточает. Она — как глубокий вдох перед заныриванием.
В офисе у меня теперь свой стол с табличкой: «Ольга А. Руководитель проектов». Коллеги шутят: «Наконец-то у нас начальник, который не орёт». Я улыбаюсь, раздаю задания, проверяю сроки. Но каждое утро, едва врубаю компьютер, мелькает мысль: «А вдруг сегодня опять что-то семейное?»
Не подвело. На второй неделе после приватизационной истории звонит отец:
— Ты не приезжай пока. Мать нервная, всё время плачет. Говорит, ты её предала.
— Чем я предала? — срываюсь.
— Ну… Семья ждала одного, а ты по-другому. Ты же знаешь: она на тебя надеялась.
— Надеялась, что я опять всё подпишу?
Он молчит. Потом кашляет:
— Ты сама понимаешь. Брату тяжелее, он мужик.
Я кладу трубку.
Илья постепенно входит в мою жизнь. Впервые я знакомлю его с Маринкой. Она, разглядывая его, кивает:
— Сойдёт. Но учти: у тебя багаж с колёсами, и ты его за собой таскаешь. Сколько он готов его катить?
Я краснею, Илья смеётся:
— У неё не багаж, а рюкзак. Только тяжёлый. Но я сильный.
Маринка щурится:
— Смотри, чтобы не надорвался.
Мы смеёмся, но у меня в груди тревожно.
Семья молчит почти месяц. Я думаю: «Может, отстали?» Но нет. Звонок матери в воскресенье:
— Мы тут с отцом прикинули: Егор жениться собрался. Надо свадьбу. Ты же понимаешь, расходы.
— Мам, у меня нет денег на свадьбу. У меня ипотека на горизонте, я сама коплю.
— Какая ипотека? — мать удивлённо. — Ты одна живёшь, тебе и так неплохо. А свадьба — событие! Мы же хотим для сына праздник.
— А для дочери — ничего?
Пауза. Мать говорит ледяным голосом:
— Ты завидуешь?
— Я устала платить за чужие праздники.
— Тогда не приезжай. Чтобы глаза мои тебя не видели.
Я кладу трубку.
В понедельник прихожу в офис, сажусь за стол и впервые за долгое время не могу работать. Маринка садится рядом:
— Что опять?
— Свадьба. С меня хотят денег.
— Сколько?
— Много. Я даже не спрашивала — боюсь.
— А ты не давай.
— Они скажут, что я предательница.
— И что? — Маринка смотрит прямо в глаза. — Пусть скажут. Ты же знаешь, что это манипуляция.
Я киваю. Но внутри будто разрывает: страх и вина дерутся насмерть.
Илья приглашает меня к себе на дачу: старый домик, покосившийся сарай, яблони. Мы сидим на крыльце, он пьёт чай, я кручу в руках кружку.
— Знаешь, — говорю, — я не уверена, что могу тебе дать нормальную жизнь.
— Почему?
— Потому что всегда буду чем-то занята. Там, дома.
— Оль, — он берёт меня за руку. — Нормальная жизнь — это не когда всё спокойно. А когда вдвоём.
Я молчу. Смотрю на яблоню, с которой падают кислые яблоки.
Семья снова собирает «совет». Я не хочу ехать, но мать пишет: «Не придёшь — вычеркнем».
Сижу за столом, рядом Зоя-соседка, противно хрустит печеньем.
— Свадьба через два месяца, — торжественно говорит отец. — Надо собрать деньги. Егор молодой, у него ещё нет накоплений. Мы решили: каждая семья по двадцать тысяч.
— А я одна, — напоминаю.
— Тем более, — встревает тётка Лена. — Ты без детей, без мужа. У тебя свободные деньги.
— У меня нет двадцати тысяч, — говорю спокойно.
— Лжёшь, — мать поднимает голову. — Ты же недавно повышение получила.
— Повышение не значит, что я обязана оплачивать свадьбу.
— Оля! — мать срывается. — Ты эгоистка! Мы все стараемся ради тебя, а ты?
— Ради меня? — усмехаюсь. — Ипотеку хотели на меня, машину оформили на меня, учёбу я платила, ремонт тоже. Где там ради меня?
Тётка Лена морщится:
— Вот неблагодарная. Родители вырастили, а она счётчики ставит.
Отец грозит пальцем:
— Ещё слово — и можешь вообще не приходить.
Я встаю:
— Хорошо. Я не приду.
Ухожу. На лестнице слышу, как мать кричит: «Да кто её замуж возьмёт с таким характером?!»
Илья встречает меня у метро. Я дрожу, он обнимает:
— Всё, хватит. С меня — шашлыки, с тебя — только улыбка.
Мы сидим вечером на его кухне, я впервые чувствую себя защищённой. Но наутро звонит Егор:
— Сеструх, не обижайся, но ты должна помочь. Мать в слезах, отец злой. Ты не понимаешь, как им тяжело. Двадцатку найдёшь?
— Нет.
— Ты же старшая. На тебе ответственность.
— Я не кошелёк.
— Тогда не приходи на свадьбу.
— Не приду, — отвечаю и сама не верю, что это сказала.
На работе завал: новый клиент, срочные сроки. Я живу в офисе, прихожу домой только спать. Телефон от матери молчит неделю, потом две. Я думаю: «Неужели всё?».
Вечером звонок. Номер неизвестный. Женский голос:
— Это вы сестра Егора? Тут он… ну… в отделении. С дракой. Надо забирать.
Я лечу туда. Егор сидит с рассечённой губой, глаза мутные.
— Сеструх, выручай, — шепчет. — На меня дело хотят завести. Ты же умная, разберись.
— Где невеста?
— Уехала к тёте. Боится скандала.
Я подхожу к дежурному, пытаюсь что-то выяснить. В голове шум: «Опять я. Опять вместо всех».
Вытаскиваю его. В такси он бормочет:
— Ты же понимаешь, я без тебя никак.
Я смотрю в окно. У меня дрожат руки.
Через три дня мать сама звонит:
— Спасибо, что помогла. Мы знали, что ты не оставишь брата.
— Мам, — перебиваю. — Ты понимаешь, что это ненормально?
— Что именно?
— Что я всегда за всех.
— Ну не всем же детям везёт. Кто-то должен и потерпеть. — И добавляет тихо: — Ты ведь сильная.
У меня подкашиваются ноги.
Я сижу на кухне у Маринки, руки дрожат, кружка с чаем едва не выпадает.
— Ну? — спрашивает она. — Повтори, что она сказала.
— «Не всем же детям везёт, кто-то должен и потерпеть». Это её слова. Моей матери. Про меня.
Маринка закрывает лицо ладонями. Потом резко:
— Это приговор, а не материнская любовь.
Я киваю. Но внутри всё равно живёт мысль: «А вдруг она права? Вдруг я и правда должна терпеть?»
Свадьба проходит без меня. Я узнала о дате случайно — через сторис знакомой. Там Егор в костюме, невеста в белом, родители сияют. Мать пишет в чате: «Праздник удался!» Я ставлю телефон экраном вниз.
В понедельник коллеги обсуждают свои выходные, а я делаю вид, что у меня всё нормально. Но вечером у Ильи в квартире разрываюсь:
— Они вычеркнули меня. Даже не позвали.
— Ты сама отказалась, — спокойно напоминает он.
— Я отказалась платить. Это не одно и то же!
— Оль, — он обнимает, — они всю жизнь привыкли, что ты рядом. И только когда тебя нет, они понимают, что ты не инструмент. Но это больно — им и тебе.
— А если они больше никогда не поймут?
— Тогда ты поймёшь. Саму себя.
Через месяц после свадьбы звонит отец:
— У Егора ребёнок скоро будет. Надо помочь с коляской, кроваткой… Ты же понимаешь.
— Пап, — я устало, — я рада за них. Но у меня нет лишних денег.
— Значит, всё на нас? — он тяжело дышит. — Мы старые уже. А ты у нас одна на кого надеяться.
— А я на кого надеяться могу?
Молчание. Потом он бросает:
— Ты черствеешь, Оля. Совсем чужая стала.
Вечером у Маринки разговор снова о моём:
— Ты понимаешь, что это замкнутый круг? — она кладёт передо мной лист бумаги и ручку. — Давай список: что ты должна им, а что они тебе.
Я пишу. Слева: «Ипотека, учёба, машина, лекарства, ремонт». Справа пусто. Только слово: «детство».
— Видишь? — Маринка стучит ручкой. — Баланс нулевой.
— Но они же родители.
— Родители — это не значит, что у них безлимитное право.
Я молчу.
Илья зовёт меня жить к себе. Говорит:
— Сними эту ношу. У нас будет своя жизнь.
Я почти соглашаюсь. Но в голове звонок: «А вдруг они не справятся? А вдруг Егор вляпается ещё сильнее?»
В этот же вечер мать пишет:
— У нас долг за коммуналку. Егор без работы, его фирма прогорела. Ты поможешь?
Я стираю сообщение. Первое в жизни стираю, не отвечая.
Через неделю прихожу к родителям. Квартира та же: ковры, сервант, запах тушёной капусты. Мать встречает холодно:
— Ты пришла? Зачем?
— Просто. Хотела увидеть.
Отец в кресле, усталый. Егор в комнате с ноутбуком, хмурый. На столе лежат бумаги — какие-то расписки.
— Что это? — спрашиваю.
— Банк, — сухо отвечает отец. — Мы за Егора поручились. Он не потянул. Теперь долг.
Я смотрю на них и понимаю: это мог быть мой долг. Ещё вчера.
— И что дальше?
— Мы надеялись, — мать опускает глаза, — что ты возьмёшь часть на себя.
— Нет, — я качаю головой. — Я не возьму.
— Ты уничтожаешь семью! — кричит Егор из комнаты. — Ты всегда была против меня!
— Я была за вас всех. Только вы этого не видели.
Тишина. Мать вдруг устало садится:
— Ну не всем же детям везёт, кто-то должен и потерпеть.
И смотрит прямо на меня.
Я ухожу. Дверь хлопает за спиной, в подъезде пахнет кошачьим кормом и краской. На улице вечер, свет в окнах, у кого-то звучит музыка. Я иду медленно, чувствую, что внутри пустота и лёгкость вместе.
Телефон вибрирует. Сообщение от Ильи: «Ужин готов. Жду».
Я смотрю на экран, стискиваю губы.
И понимаю: дальше выбор только мой.





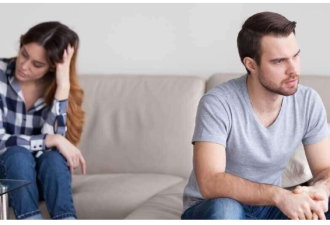











 Не по-родственному это, неблагодарная, — сказала бабушка
Не по-родственному это, неблагодарная, — сказала бабушка