— Скажи честно: тебе неприятно смотреть, как я расцвела! Завидуешь? — Лика хлопнула крышкой косметички так, что по столу в кафе прокатилась помада.
— Зависть? — переспросила я, не сразу находя голос. — Лик, у тебя губы опухли так, что ты слово «здравствуйте» выговариваешь через «ш», ты сама себя узнала бы на старых фото?
— Это называется объём и эффект «голливуд». Ты просто ничего не понимаешь в индустрии красоты, — Лика расправила плечи, закинула назад новые, слишком блестящие волосы и скосила глаза к зеркалу на стене. — Сейчас это тренд.
— Тренд — это когда люди на тебя смотрят и думают: «красивая женщина». А не спрашивают: «чего у неё с лицом?»
— Вот и началось, — откинулась она. — «Красота вам мешает жить, гражданка Скромность». Ты всегда была такая. Пока я экономила на себе, тебе это нравилось, а как только ребёнок уехал в общагу и я, наконец, стала жить для себя, ты обиделась. Да-да, зависть, Анют.
— Это не обида, — я положила вилку, чтобы не дрожала рука. — Это ужас. Я смотрю и не вижу тебя. Я вижу кого-то, кто повторяет ролики из соц сетей, и не умеет улыбаться без боли.
— Боль — это цена совершенства, — не моргнув, сказала она. — И вообще, на твоём месте я бы перестала за свои ногти переживать и записалась на нормального мастера. Вон, в соседнем городе есть студия…
— Я не про ногти, Лик. Я про тебя.
— А я — про тебя. Про то, что тебе проще назвать меня «искусственной», чем признать: рядом с богиней жить трудно, — она усмехнулась. — С богиней мужчины должны соответствовать. Ты бы поняла, если б не боялась меняться.
— Да, я боюсь, — кивнула я. — Боюсь, что у тебя изнутри скоро ничего не останется.
Мы с Ликой дружили с шестнадцати лет. В общаге у нас были одинаковые кружки, расписанные фломастерами. На выпускном мы клялись, что в сорок будем такими же смешными. В сорок три мы действительно были смешны, но смех звучал иначе.

— Помнишь, как мы за билетами в театр ночевали у касс? — как-то спросила я её по телефону, когда всё только начиналось.
— Театр? — удивилась она. — Ань, ты в каком веке живёшь? У меня сейчас курс на лицо: детокс, лифтинг, мезо, биоревитализация, ботуло… ну ты поняла.
— Это надолго?
— Надолго — это пока кайфую. Я заслужила. Дочка на бюджете, Лёша (её бывший) сказал: «беру расходы на себя». Ты представляешь? Я впервые могу тратить на себя! — в трубке звенела радость, почти детская.
— А кофе на нашем углу? — не сдавалась я. — У тебя там любимая корица…
— Корица — сахар, отёки, старение. Нет-нет, я теперь за ЗОЖ, — Лика рассмеялась. — И вообще, у меня сегодня консультация у косметолога из соседнего города, напишу вечером.
Вечером она прислала селфи. Кожа как фарфор, губы плотные, чёткая, как фломастером, линия бровей. Под фото — подпись: «Новая я. Наконец-то!»
— Новая ты — это старая ты внутри? — написала я.
— Лучше, — мигом ответила она. — Теперь во мне будет всё, что я хотела и на что раньше не решалась.
— А ты точно этого хотела?
— Всегда хотела. Просто раньше не было денег и смелости.
— А сейчас?
— Сейчас есть и то, и другое.
В один из наших редких вечеров мы всё-таки встретились на прогулке. Лика шла в куртке под кожу, в сетчатых колготках и серебристых кроссовках, как двадцатилетняя звезда клипа, и почти не сгибала губы, когда говорила — боялась смазать контур.
— Для меня неприемлемо, если мужчина зарабатывает меньше трёхсот, — заявила она, останавливаясь у витрины с бриллиантами. — Рядом со мной иначе нельзя.
— А если он — человек, — я тоже остановилась, — добрый, умный, внимательный?
— Пускай будет всё это — и плюс триста. Я что, много прошу? — Лика усмехнулась. — Я вкладываюсь в себя. Мужчина тоже должен вкладываться. Ты же не споришь, что красота — это капитал?
— Спорю. Красота — это живое. Оно не про то, что вкололи и приклеили.
— О, началось, — закатила она глаза. — Живое — это прыщи и морщины? Спасибо, не надо.
— Живое — это когда у тебя взгляд мягкий, а не стеклянный. Когда ты смеёшься — и тебя слышно, а не звенит только браслет.
— Тебя поражает мой успех, — убеждённо сказала она. — Город маленький, да. Но я вышла за его пределы. Салоны двух соседних городов уже мои, между прочим.
— В каком смысле «твои»?
— Мои — как клиентки. Там мастера знают, что делать. Здесь — провинция. Я с каждым визитом становлюсь лучше, увереннее, дороже, — она улыбнулась уголками губ, аккуратно, чтоб не потянулось. — И да, я теперь выбираю вещи, которые подчёркивают достоинства. В сорок три это особенно важно.
— Сетчатые колготки — это достоинство?
— Это настроение, — отрезала Лика. — А у тебя какое? «Латте без сахара»?
— У меня — «люди, фильмы, разговор». Помнишь, как мы спорили после «Вишнёвого сада»?
— Нужно идти вперёд. Новые сюжеты, новые лица, новые стандарты, — произнесла она, словно читая рекламный пост.
— Свои стандарты или чужие?
— Теперь — мои.
Через неделю Лика прислала голосовое. Голос был странный — глухой, непривычный.
— Ань, если что, не пугайся. Это временно. Отёк из-за миграции филлера, — мне объяснили. Через пару дней всё осядет, и будет идеально.
— Что у тебя? — спросила я.
— Филлеры и немножко ботуло. Совсем чуть-чуть, — тихо хихикнула она. — Ты же сама говорила, что лоб морщинит, когда я удивляюсь. Теперь не морщинит. Мне двадцать пять на вид, прикинь!
— Ты себе нравишься?
— Я — вау, — сказала она серьёзно. — И да, мужчины смотрят. Один, кстати, просил телефон. Я сказала: «Подпишись на мой блог — там всё узнаешь». Надо монетизировать внимание. Ты же понимаешь.
— А улыбаться больно?
— Немножко. Но это — ерунда. Ты лучше скажи: когда перестанешь меня стыдить?
— Я не стыжу. Я переживаю, — честно ответила я. — Мне тебе сказать или промолчать?
— Говори. Я же не хрустальная.
— Ты стала говорить фразами из интернета. Про «богиню», «дороже», «монетизировать внимание». Ты перестала смеяться своей смешной, нашей, смехотой. Ты перестала читать, смотреть, спрашивать. Ты всё время смотришь в зеркало.
— И что? — в голосе звякнул металл. — Я жила для дочери. Для всех. Теперь — для себя. Я хочу нравиться себе. И мне плевать, кто считает меня «искусственной». У меня будет жизнь, как в кино. Ты можешь либо радоваться за меня, либо продолжать теребить свою мораль.
— У меня не мораль. У меня память, — я вздохнула. — Про то, как мы были живыми. Не идеальными. Но — живыми.
— Живой я буду на фотосессии в пятницу, — сказала она мягче. — Поехали со мной? Ты увидишь, какая я стала.
— Я не могу в пятницу, — соврала я. — У меня работа.
— Какая ещё работа? — Лика фыркнула. — Ты же даже ресницы не наращиваешь.
— А это связано?
— Всё связано. Ты застряла.
— Может, я — осталась. А ты — ушла.
— Ушла туда, где мне хорошо.
Мы встретились снова — в субботу, в том же кафе. Лика опоздала, вошла медленно, будто боялась случайно моргнуть.
— Ну как я? — спросила с порога.
— Ты — другая, — сказала я. — Совсем.
— Лучше?
— Для меня — нет. Для тебя — не знаю.
— Вот и всё, — она посадила сумочку рядом, как маленькую собачку. — Я знала, что ты не выдержишь. Друг подругу не унижает.
— Я не унижаю. Я честно говорю.
— Тебе было бы легче, если бы я, как ты, красила ногти сама и покупала крем за четыреста рублей? — Лика сузила глаза. — Ты ведь никогда не умела принимать чужую свободу.
— Свобода — это когда ты можешь смеяться так, что слёзы. Ты теперь можешь?
— Могу. Просто это будет без слёз. Макияж жалко, — она улыбнулась аккуратно. — Ань, слушай, давай так: мы — разные. У меня теперь другие ценности. Да, я не пойду в театр в ближайшее время. Да, мне неинтересны ваши вечера с обсуждением фильмов. Зато мне интересно, как я выгляжу при дневном и вечернем свете, какая у меня посадка губ, как ложится хайлайтер…
— Это и есть твоя жизнь?
— А почему нет? — она пожала плечами. — Ты живёшь своей, я — своей. Только не нужно меня стыдить. И уж точно не нужно говорить, что тебе со мной тяжело. Это оскорбительно.
— Это честно, — повторила я. — Мне тяжело, потому что я не слышу тебя. Я слышу студию, рекламу, бьюти-инфлюенсеров, но не тебя. Лика, где ты?
— Я здесь, — холодно сказала она. — Я — наконец-то красивая, ухоженная женщина, которая знает себе цену. И да, я теперь выбираю мужчин по уровню. И подруг — тоже.
— По какому уровню ты выбираешь подруг? По длине ресниц?
— По поддержке. Ты меня не поддерживаешь. Ты ставишь диагноз «пустышка». Спасибо, что предупредила. Дальше я пойду одна.
— Я не ставлю диагноз. Я прощаюсь, — произнесла я низко, чтобы не дрогнул голос. — Потому что хочу помнить тебя настоящей.
— Настоящая — это та, что сейчас, — твёрдо сказала Лика. — А ты застряла в архивах. Ну… удачи.
— Тебе — тоже.
Мы выпили чай молча. Она листала ленту, я смотрела в окно. Потом мы вежливо кивнули, как две знакомые, и разошлись.
Прошла неделя. Я уже привыкла не писать ей утренних «ты где?», не пересылать афиши, не шутить про старую общажную кофеварку. И вдруг ночью — сообщение.
— «Ань, срочно не спи. У меня осложнение. Там… синяк и бугорок. Это нормально?»
— «Покажи фото», — ответила я, сердце бухало.
Фото пришло сразу: под левым глазом — плотный, синюшный валик, как подушечка. Кожа натянута. Взгляд — растерянный.
— «Это может быть миграция филлера. Иди к врачу. Прямо сейчас. Не в студию — к врачу. В любую дежурную клинику. Пусть смотрят».
— «Думаешь, всё плохо?»
— «Я не думаю. Я хочу, чтобы ты была в порядке».
— «Ты же меня ненавидишь», — написала она буквально через минуту.
— «Я тебя не ненавижу», — набрала я. — «Я тебя люблю. Просто я тебя потеряла».
— «Я закажу такси», — пришло через секунду. — «Пойдёшь со мной?»
— «Пойду», — набрала я, взяла ключи, телефон и накинула куртку.
В дежурной хирургии пахло хлоркой. Молодой врач осмотрел, нахмурился.
— Филлер мигрировал, — объяснил он спокойно. — Нужно выждать и, возможно, вводить препарат-антидот. Сейчас холод и покой. Наблюдение. Никаких массажей, никаких роликов. Поняли?
— Поняла, — глухо сказала Лика.
Мы вышли на улицу, сели на лавку. Ночь была хрупкая, из окна третьего этажа звенел чей-то смех.
— Ты довольна? — спросила она внезапно. — Вселенная наказала богиню?
— Лик, перестань, — я обхватила ей плечи. — Я просто хочу, чтобы тебе перестало быть больно.
— Странно. Ты говоришь — «пустышка», а держишь за руку так, как в институте, — она усмехнулась. — Может, я действительно перегнула? Просто… знаешь, я вдруг осталась одна в трёхкомнатной тишине. И так стало пусто, что я решила её заполнить. Хоть чем-то. Хоть шприцами.
— Тишина не заполняется шприцами, — сказала я. — Её заполняют люди, музыка, запах хлеба, книжка с закладкой, старые кружки с рисунками, глупые фильмы… или можно просто прожить её. Это сложно, но честно.
— Прожить… — повторила она. — Я попыталась прожить иначе. По инструкции из «реels». Там всё просто: «вложись в себя, стань богиней, мир тебе всё должен».
— А мир никому ничего не должен, — мягко ответила я. — Он просто есть. И мы — есть. Такие, какие есть. С морщиной, смехом, страхом.
— А мужчины на меня действительно больше смотрят, — вдруг сказала она. — Только я не уверена, что вижу там что-то, кроме взгляда на маску.
— Так сними её, — предложила я. — Хоть на день. Хоть на час. Посмотри, что останется.
— Останусь я, — сказала она после паузы. — Та, что была с тобой в общаге.
— Вот и хорошо.
Она кивнула и, словно боясь расплакаться, закрыла глаза. Мы сидели молча ещё минут десять. Потом я вызвала такси, мы доехали до её дома, и на прощание она вдруг обняла меня неожиданно крепко.
— Не исчезай, — попросила она.
— Я рядом, — сказала я. — Но я не могу быть рядом с твоей маской. Только — с тобой.
— Договорились, — прошептала она.
Наутро Лика прислала ещё одно фото — отёк стал меньше. Под ним короткая строчка: «Врач сказал отменить всё на три месяца. И… можно я к тебе загляну вечером? Не поговорить про контуринг. Про нас».
— Приходи, — ответила я.
Вечером мы сидели на кухне. Я сварила какао, достала тот самый старый набор кружек, спасённый из общаги. Лика сморщилась, увидев свою «доисторическую» подпись на фарфоре: «Лика-красотка».
— Видишь? — сказала я. — Ты и тогда была красоткой. Без лифтинга и филлеров.
— Тогда у меня была дочка, шум, сто дел, бегом-бегом, — сказала она, делая первый, осторожный глоток. — Я нарочно заполняла каждый час, чтобы не слышать себя. А когда всё стихло… стало страшно. Пустота громче любого шума.
— Пустоту иногда надо слушать, — пожала я плечами. — Она говорит правду.
— Правда в том, что мне сорок три, я одинока, и я не знаю, чего хочу, кроме как понравиться отражению, — сказала она прямо. — Это звучит жалко?
— Это звучит честно.
— А ещё правда в том, что я реально обиделась на тебя, — усмехнулась она. — Потому что ты не восхищалась. Я была уверена, что я — «ух», а ты должна сказать «вау». И когда ты не сказала… я разозлилась.
— Я не умею восхищаться тем, что тебя ранит, — ответила я. — Но я могу восхищаться тем, что ты сейчас говоришь это вслух.
— Слушай, а у тебя остались те списки фильмов? — Лика прищурилась. — Про театр — это, конечно, слишком, ещё рано. Но кино я, кажется, соскучилась.
— Остались, — улыбнулась я. — И у меня есть два билета на завтрашний вечер. Небо обещают без дождя. После кино — кофе. С корицей.
— Корица — сахар, отёки, старение, — автоматически сказала она и сразу закатила глаза. — Господи, что я несу. Ладно. Пусть будет корица. Жизнь — это не только блеск и безуглеводное меню.
— Жизнь — это когда ты можешь посмеяться над собой, — подмигнула я. — И расплакаться тоже. Если хочется.
— Плакать не буду, — упёрто сказала она, но улыбнулась по-настоящему — с тем самым, старым, живым заломом под глазом, который не отменишь ничем. — Но если что — у меня есть ты.
— У тебя всегда есть я, — кивнула я. — Даже если ты снова решишь стать богиней. Только, пожалуйста, без боли.
— Договорились, — повторила она. — И… прости за «ты завидуешь». Это была не правда.
— Я знаю, — сказала я. — Ты просто очень испугалась себя в зеркале.
— Наверное, — она задумалась. — Знаешь, я не против процедур. Просто… хочу научиться останавливаться. Чтобы это было про поддержку, а не про замену. Чтобы я всё ещё могла узнать себя в отражении.
— Вот мы и придумали стандарт, — усмехнулась я. — «Красота, в которой тебя узнаёт твой человек».
— А если появится тот самый «на триста»? — подмигнула она.
— Пусть сначала узнает тебя без цифр, — сказала я. — И без фильтров.
— Проверим, — Лика поставила кружку и вдруг потянулась к моему телефону. — Дай-ка я удалю у тебя пару моих «вау»-фото. Я не хочу, чтобы у тебя была коллекция моей маски.
— Не удаляй. Это — тоже часть истории, — я забрала телефон и улыбнулась. — Истории о том, как мы однажды еле не потеряли друг друга между контурингом и корицей. Но нашли.
— Нашли, — согласилась она. — И давай завтра в кино я пойду без ресниц. Чтоб не смазать тушь, если вдруг…
— Вдруг окажется смешно, — подхватила я.
— Или грустно, — она пожала плечами. — Я согласна и на то, и на другое.
Мы допили какао. За окном тускло светила улица, и вдруг стало ясно: тишина может быть не пугающей, а тёплой — как плед. И никакие уколы не нужны, чтобы почувствовать себя живой, когда рядом — тот, кто помнит тебя настоящей и не боится сказать правду.
Иногда Лика всё ещё присылает мне селфи: то новую стрижку, то маникюр, то крем, которым она гордится. Иногда — афишу фильма. Иногда — фотографию той самой старой кружки. Иногда — голосовое: «Ань, у меня сегодня плохой день. Можно я к тебе?»
— Можно, — отвечаю я. — Всегда.
А на днях она написала: «Знаешь, «богиня», наверно, пусть останется для фото. А в жизни я хочу быть просто Ликой. Той, которой можно смеяться, морщить лоб, волноваться, говорить глупости и всё равно быть красивой».
— Согласна, — написала я. — Тебе это идёт.
— И тебе, — ответила она. — Особенно — корица. Завтра — кофе?
— Завтра — кофе, — набрала я. — И кино. И жизнь — без фильтров.
Мы смеялись в переписке, и смех был слышен — не браслет звенел. И я поняла: зависть — это точно не про нас. Про нас — привычка не отпускать тех, кого любишь, даже если они теряются в зеркалах.
Про нас — умение назвать маску маской и лицо лицом. Про нас — наше сорок три, в которых наконец хватило смелости быть живыми.

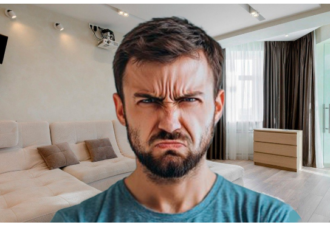















 — Это МОЁ наследство, и я сама решу, что с ним делать — не выдержала я, когда свекровь в очередной раз заявила свои права на бабушкину
— Это МОЁ наследство, и я сама решу, что с ним делать — не выдержала я, когда свекровь в очередной раз заявила свои права на бабушкину