Я узнала о продаже квартиры от соседки.
— Ты не слышала, твою маму новая сиделка в «МФЦ» водила, квартиру оформляли, — сказала Татьяна Степановна, когда я привезла маме продукты. — Они всё лето вместе, теперь вот, видимо, всерьёз.
— Какая ещё сиделка? У неё же всё нормально, — отмахнулась я тогда. — Ходит сама, варит, по врачам с ней младшая сестра ездит, Вика.
Но внутри уже защемило. Мама — не доверчивая, она с чужими всегда настороже. А тут — «всё лето вместе»? И главное: почему ни я, ни Вика ничего не знаем?
Когда я попыталась поговорить с мамой, она съехала с темы. Сказала, что устала, не хочет ни о чём спорить и чтобы я, если уж приехала, лучше помыла ванну, потому что у неё руки болят. Это типично для неё — в любой напряжённой ситуации сделать виноватой кого-то другого. Я — старшая, я должна. Всегда была должна.

Вика родилась, когда мне было десять. Тогда мама лежала в больнице почти три месяца, и я впервые поняла, что мне некуда деваться. Отец работал вахтами, бабушка жила далеко. Я варила каши, гладила пелёнки, вставала по ночам к орущей сестре. А потом, когда мама вернулась, было уже как-то естественно, что я и дальше «помогаю». Хотя скорее — заменяю. Детство закончилось там, в двухкомнатной хрущёвке, с младенцем на руках.
Но самое странное началось позже. Как только Вика подросла, мама с ней носилась, как с хрустальной вазой. Прощала всё: двойки, прогулы, истерики. А мне говорила, что «я сама виновата», что «не надо так реагировать», что «будь ты умнее, она бы не орала».
Когда мне исполнилось восемнадцать, я сказала, что хочу уехать в Питер учиться. Ответ был короткий:
— Ты эгоистка. Бросить сестру, когда она в подростковом возрасте — это просто предательство. Я тебя растила не для этого.
Я осталась. Поступила на вечернее, устроилась на работу, снимала угол. Вика тем временем заканчивала школу, не хотела учиться, гуляла по клубам и иногда приходила ко мне ночевать. Потому что с мамой — скандалы, а у меня — тихо.
Я платила за курсы, вытаскивала её из каких-то долгов, находила подработки. Мама, кстати, всё это время говорила: «Ты должна ей помочь. Ты же старшая. У тебя сильный характер».
Однажды мама слегла с температурой. Это была обычная простуда, но она позвонила мне в истерике:
— Я умираю, приезжай.
Я взяла отгул, поехала. Это был 2020 год, пандемия, все на нервах. Я, в маске и перчатках, целый день стирала, варила, бегала за лекарствами. Вика приехала под вечер, занесла два пакета с грейпфрутами, села на диван и… включила сериал.
Мама потом рассказала, как она «благодарна Вике» за то, что та её «поддерживала в тяжёлую минуту». А я… я, как всегда, была должна. Без благодарности, без признания.
В ту осень мама начала сдавать: забывала, куда положила очки, повторяла одни и те же вопросы. Вика говорила:
— Ну ты же понимаешь, она уже не молодая. Всё нормально.
Но через полгода стало ясно: не нормально. Я привезла маму на обследование, настояла на МРТ, нашла хорошего невролога. Выписали лекарства. Всё — за мой счёт.
Потом стали думать, что делать дальше. Я предложила скинуться на сиделку. Вика тогда ещё работала в салоне, жила отдельно, но как-то изворотливо сказала:
— Я не могу, у меня ипотека, ты же знаешь. А ты — старшая.
И снова — «старшая». Это слово преследует меня, как клеймо.
Сначала сиделка была наша, общая. Мы договорились с агентством, оформляли график, я платила половину, Вика — половину. Но через пару месяцев мама вдруг сказала:
— Не хочу эту, она грубая. Мне Ольга больше нравится, она соседку мою лечила, золотые руки.
— А ты с ней уже знакома?
— Она приходит иногда, помогает.
— Она тебе за деньги помогает?
Мама помялась, но потом кивнула.
— Ну да. Я ей плачу. Не волнуйся, немного.
Вика только плечами пожала. Мол, если маме нравится — пусть будет. Меня это напрягло. Но у меня — двое детей, муж, работа. Я не могла контролировать всё.
Так и появилась эта Ольга. Мама всё чаще упоминала её в разговорах. Потом начала говорить «Олечка мне купила», «Олечка посоветовала», «Олечка сказала, что ты слишком тревожная».
Я спрашивала напрямую:
— Ты ей доверяешь?
— А почему нет? Она добрая, помогает не из корысти. Не то что некоторые.
— Это кто — «некоторые»?
Мама отмахивалась.
С той осени я почувствовала: нас отодвинули. Я приезжала реже. Мне было противно, что незнакомая женщина распоряжается жизнью моей матери. Но мама улыбалась, как школьница:
— Олечка мне пирожки принесла. Сама пекла. Ты не обижайся, она мне как подруга.
А когда я как-то сказала: «Нам с Викой надо будет обсудить, как дальше быть с квартирой, с лечением», мама резко ответила:
— Это моя квартира. И вы с Викой забудьте, что можете тут чем-то распоряжаться.
Тогда я списала это на возраст. На усталость. На эмоции. Но теперь… соседка сказала, что их видела в МФЦ.
Я не могла не поехать. После разговора с Татьяной Степановной в голове стучало одно: если мама действительно переписала квартиру — это конец. Я не про квадратные метры. Я про справедливость. Про десятки лет, когда я тащила всё на себе, пока Вика занималась собой, пока мама просила, уговаривала, требовала.
Дверь открыла та самая Ольга. Невысокая, плотная, с гладко зачёсанными волосами. На ней был фартук, в квартире пахло варёным мясом.
— О, здравствуйте, — спокойно сказала она. — Я как раз бульон варю, ваша мама любит с вермишелью.
— А вы… кто вы вообще?
— Ольга Николаевна. Мы с вашей мамой уже почти родные люди. Я ей помогаю, ухаживаю, в аптеку хожу. Не беспокойтесь, я всё фиксирую, есть чеки.
Она говорила доброжелательно, уверенно, как будто и не я дочь. Как будто это она имеет право проверять, чего мама хочет, а чего — нет.
Я прошла на кухню. Мама сидела у окна, вязаный жилет, аккуратная причёска. На коленях — кот, которого я не знала.
— Ты чего приехала? — удивилась она. — У нас всё хорошо.
— Мам, ты была в МФЦ?
— Ага. По делам.
— По каким делам?
— Не твое дело. Хватит допрашивать.
— Мам… — я села напротив. — Объясни мне. Ты действительно оформила квартиру на эту женщину?
Ольга поставила перед мамой чашку с отваром. Мама молчала, отводила взгляд.
— Я имею право знать! — повысила я голос. — Это не просто «твои дела», это общее, это важно. Ты хочешь всё оставить чужому человеку?
— Не чужому, — резко сказала мама. — Ольга — мне ближе, чем ты сейчас. Она рядом, она заботится.
Я не выдержала:
— То есть все эти годы — ничто?! Я унижалась, влезала в кредиты ради тебя и Вики, отказывалась от командировок, отдохнуть ни разу не поехала. Всё — потому что я старшая, я должна! А теперь — квартира Ольге, а мне: «не твоё дело»?!
Мама не отвечала. Смотрела в окно. Ольга молча стояла у плиты, как актриса, не вмешиваясь, но всё слыша.
В тот вечер я напилась. Позвонила подруге, Лене. Плакала в трубку, как в детстве. Она слушала, долго, не перебивала.
— Слушай, — наконец сказала она. — А ты с Викой поговорила?
— Нет. И не хочу.
— Может, стоит? Всё-таки вы — сёстры.
Слово «сёстры» звучало фальшиво. Мы не сёстры. Мы — две женщины, у которых случайно общая мать.
Я позвонила Вике через пару дней. Она взяла трубку, уже зная, о чём пойдёт речь.
— Да, мама на неё всё переписала. Я была в курсе.
— Чего?! — я едва не уронила телефон. — Ты знала?
— Да. Она мне сказала. Говорит: «Мне не нужны ваши склоки, вы всё равно меня бро́сите, когда совсем плохо станет. А Оля — нет. Ей можно доверять».
— И ты что? Согласилась?
— А что мне было делать? Это её решение. Да и не стану я ни с кем воевать за старую квартиру.
— Вика, ты серьёзно? Это наша квартира. Там мы выросли. Там… — я осеклась. — Это не только её.
— Юль, ты вечно всё тащишь. Тебе нравится быть правильной. Ну и будь. А я устала. Я маму люблю, но воевать с ней — себе дороже.
— То есть ты знала и ничего мне не сказала.
— А ты бы что сделала? Пошла бы с ней ругаться? Добилась бы, чтобы она тебя возненавидела?
Я молчала. Потому что да — именно это и случилось.
Через неделю мама позвонила сама. Сказала коротко:
— Больше не надо приезжать. Я не хочу с тобой ссориться, но ты мне делаешь больно. Ты всё считаешь, всё вспоминаешь. А мне сейчас нужно спокойствие.
— Мам…
— Всё. Я уже решила. Так будет правильно. Не обижайся.
И положила трубку.
Я пыталась говорить с юристом. Тот объяснил: если мама в здравом уме и действовала добровольно, то это её право. Отменить — почти невозможно.
Я просила показать договор, но его никто мне не дал.
— Это личное, — сказала Ольга. — И потом, ваша мама взрослый человек, не ребёнок.
На Новый год мы не поехали к ней. Я купила подарок — тёплый плед, набор кремов, но не повезла. Потому что не смогла. Сидеть там, за столом, напротив этой женщины — как?
Мама написала Вике:
«Передай Юле, что я всё понимаю. Но если хочет обидеться — пусть обижается».
Весна пришла внезапно — как будто кто-то включил свет. Двор, в котором я не была с осени, стоял сухой и пыльный, в палисаднике — старая сирень, которую мама сажала ещё при бабушке. Я смотрела на неё из машины, не решаясь выйти.
Повод был. Повод странный, неловкий. У мамы день рождения, семьдесят три. Не юбилей. Но какой-то внутренний тумблер переключился — я поняла, что не могу не приехать. Потому что если не сейчас — то, может быть, уже никогда.
Подарок лежал в пакете на сиденье: фоторамка с нашей общей фотографией. Старой, выцветшей. Мы втроём: мама, я, Вика. Тогда ещё всё казалось по-настоящему.
Я вышла из машины и сразу заметила: окна мамины чистые, занавески новые. В прихожей пахло свежим мылом. Дверь открыла Ольга.
— А вы… — она растерялась. — Вы что-то хотели?
— Поздравить.
— А… ну… проходите.
Я зашла в квартиру, будто в чужую. Всё было как-то не по-домашнему. Идеально прибрано. Ни одной газетной стопки, ни вязальных клубков. В зале — новый комод, на котором стояла ваза с живыми цветами.
— Мама в комнате, — сказала Ольга. — Только недолго, ладно? У неё давление скачет с утра.
Я зашла в спальню. Мама лежала на кровати, глаза закрыты, но, услышав шаги, приподнялась.
— Юля?
— С днём рождения, мам.
— Спасибо. Ты… ты пришла всё-таки.
— Да. Я не могла не прийти.
— А дети как?
— Хорошо. У Вити каникулы. Софья в музыкалку пошла.
— Молодцы… — Мама погладила покрывало. — Я соскучилась. Но зла не держу. Просто устала. Ты пойми, я не вечная. Мне хочется покоя.
— Мам… — я присела на край кровати. — Я всё ещё не могу это принять. То, что ты… что ты всё ей оставила. Ольге. А нам — ничего. Даже не потому, что мне что-то нужно. А потому что это так похоже на всё, что было раньше. Опять: кто рядом — тому всё. Кто вкалывает в фоне — тот никто.
— Юля… ты всё считаешь. Всегда считала. Я жила с этим чувством всё время.
— А как мне было не считать, если на мне всё было?
— Ты сильная. А сильные не просят.
— Но ты ведь знала, что я жду, что… хоть в конце — хоть что-то будет честно. По-человечески.
Она отвернулась.
— Ты жила как надо. У тебя семья, дети, работа. У тебя всё будет. А я хочу, чтобы меня не бросили.
— То есть ты нас — уже бросила, мам.
Я вышла оттуда с ощущением, будто побывала в музее. В музее жизни, в котором всё законсервировано, и ничего нельзя трогать. Только смотри и уходи.
На улице стояла Вика. С сигаретой, в чёрной куртке.
— Тоже приехала? — спросила я.
— Да. На полчаса. Без подарков. Просто — отметиться.
— А ты в курсе, что мама просила меня не приезжать больше?
— Да. Она мне говорила. И про квартиру — тоже.
— И тебе это нормально?
— А ты думаешь, мне перепало? — Вика рассмеялась. — Она и меня вычеркнула. Оля ей говорит, мол, все дети — неблагодарные. И мама верит. Потому что это — удобно.
Я смотрела на сестру и не понимала: жертва она или манипулятор? Такая же, как мама? Или просто устала?
— Знаешь, — Вика затушила сигарету, — я ведь сначала злилась. А потом подумала: ну и ладно. Пусть живёт, как хочет. Это её старость. А у меня — своя жизнь.
— А справедливость?
— А кто тебе обещал, что будет справедливо?
Через месяц мне позвонил нотариус.
— Вы Юлия Львовна?
— Да. Что-то случилось?
— Ваша мать внесла изменения в завещание. Хотела, чтобы вы были в курсе. Документ у нас. Вы можете приехать ознакомиться.
— Что за изменения?
— Прямая передача права пользования квартирой — гражданке Маше Алексеевне. Она ухаживает за вашей мамой. Договор пожизненного содержания с иждивением.
— Маша? — я не поняла. — Какая ещё Маша?
— Гражданка, зарегистрирована по другому адресу, но проживает у вашей матери последние полгода. Фактически — новая сиделка. Она пришла на смену Ольге Николаевне.
Я сидела в машине, не в силах понять: ещё одна? То есть и Ольгу — мама тоже отодвинула?
Я позвонила Вике.
— Ты слышала?
— Про Машу? Да. Я тоже в шоке.
— А Ольга где?
— Не знаю. Мама сказала: «Так будет лучше». И всё. Без объяснений.
Я отключила звонок, а потом написала сообщение маме. Короткое:
«Ты серьёзно?»
Ответ пришёл через час:
«Если хочешь обидеться — обижайся. Но квартира останется Маше», — заявила строго мать.
Обижаться или не обижаться — это ведь всегда про выбор. Но от этого квартира не станет моей. Детство — не станет счастливым. А мама — другой.
И я, кажется, наконец поняла: отмотать назад нельзя.








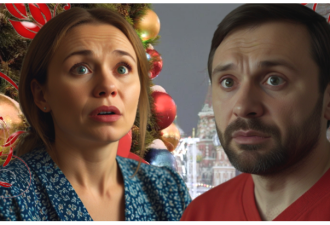








 Дорога к счастью не всегда прямая
Дорога к счастью не всегда прямая