Лариса Михайловна стояла у старенькой газовой плиты с облупившейся эмалью и медленно помешивала картошку деревянной ложкой. Тушёнка уже третий день подряд — других денег не было. Банка стоила половину того, что она зарабатывала за смену в сельпо.
Октябрьское солнце едва пробивалось сквозь затянутые тучами окна их двухкомнатной квартиры на втором этаже панельного дома постройки семидесятых. За окном виднелись такие же серые коробки, между которыми росли чахлые берёзки и стояли покосившиеся детские качели без сидений.
Типичный российский посёлок — когда-то здесь был завод, теперь от него остались только ржавые трубы да воспоминания о том времени, когда люди работали и получали зарплату.

За спиной у Ларисы, за круглым столом, покрытым клеёнкой с выцветшими цветочками, расположилась вся Танькина семейка.
Сама Татьяна — золовка тридцати восьми лет с лицом, на котором уже прочно поселилось выражение постоянного недовольства жизнью. Когда-то она была хорошенькой — светлые волосы, голубые глаза, фигурка. Теперь волосы отросли неопрятными прядями, фигура поплыла после двух родов, а в глазах поселилась та особенная усталость женщины, которая привыкла, что все в жизни плохо и лучше не станет.
Рядом с ней устроился её сожитель Виталий — мужчина лет сорока с барабанным животом, нависающим над ремнём старых джинсов. Лицо одутловатое, щетина трёхдневная, глаза тусклые.
За полтора года, что он жил в их квартире, Лариса ни разу не видела, чтобы он принёс домой хотя бы буханку хлеба или пакет молока. Зато пить умел — каждый вечер покупал бутылку и сидел на лавочке у подъезда с такими же безработными мужиками, обсуждая, кто виноват в том, что жизнь не задалась. Иногда и Татьяна присоединялась к подобным посиделкам.
И двое Танькиных детей от первого сожителя — пятнадцатилетний Никита и тринадцатилетняя Кристина. Подростки с тем особенным выражением лица, которое бывает у детей их возраста, так ещё и не из полноценной семьи.
Никита — долговязый, с прыщавым лицом и вечно сальными волосами, которые он отращивал «как у блогера». Кристина — копия матери в юности, но уже с тем же капризным изгибом губ и привычкой закатывать глаза при любом замечании.
— Опять эта картошка, — проворчал Никита, даже не глядя в тарелку, которую Лариса поставила перед ним. — Фу, противно. А нормальная еда будет? Мать бы такое не дала.
— Какая нормальная еда? — фыркнула Кристина, ковыряясь вилкой в содержимом своей тарелки. — Дошираки да пельмени из пакета. И то не каждый день.
— РОт закрыли оба, — огрызнулся Виталий, накладывая себе полную тарелку. — Жрать дают — и спасибо. А то некоторые привередничают.
Лариса сжала зубы и отвернулась к плите. Вот так каждый день. Каждый приём пищи сопровождался претензиями, недовольством, хамством. А она молчала, терпела, сглатывала обиду. Память о Серёже не давала покоя — он же не выгнал бы родную сестру на улицу с детьми.
Сергея не стало год и три месяца назад. Нелепо, глупо, как-то по-русски безнадёжно. Работал крановщиком на стройке, зарплата была неплохая по меркам их посёлка. Их хватало на жизнь вдвоём: квартплата, еда, иногда даже в кино съездить могли. А в тот день трос лопнул, груз сорвался. Серёжа попытался увернуться, но плита весом в полтонны оказалась быстрее.
Хоронили всем посёлком — Серёжа был свой, местный, все его знали с детства. Даже те, кто не разговаривал годами, пришли проводить. А Таня рыдала так, что казалось — сейчас сама упадёт замертво от горя.
— Лариса, — говорила она тогда, хватаясь за её руку красными от слёз глазами, — я не знаю, что делать. Серёжа был мне как отец, понимаешь? После папы с мамой он был единственным родным человеком.
И Лариса понимала. Их родители ушли рано — отец от инфаркта в пятьдесят два, мать через год от рака. Серёжа и Таня остались одни, и брат всегда чувствовал ответственность за младшую сестру, даже когда она наделала глупостей.
Наследство от бабушки с дедушкой они получили ещё лет десять назад. Всё по справедливости: Тане достался дедушкин дом на окраине посёлка — деревянный, с печным отоплением, но крепкий и большой. Серёже с Ларисой — комната в коммунальной квартире, зато с центральным отоплением и водопроводом.
Потом они долго копили, жили впроголодь, чтобы выкупить соседскую комнату. Лариса подрабатывала уборщицей в школе, Серёжа брался за любую работу — от мелкого ремонта до ремонта крыш. Через три года смогли купить вторую комнату у соседки, которая пропивала всё подряд. Сделали перепланировку, получилась нормальная двухкомнатная квартира.
А Таня тем временем влезла в кредиты. Сначала взяла микрозайм на ремонт крыши, потом ещё один — на новую печку, потом третий — чтобы закрыть первые два.
Дом начал разваливаться — крыша всё равно протекала, печка дымила, водопровода не было, нужно было тащить воду из колонки за двести метров. А тут ещё дети подросли, стали жаловаться, что у них интернета нет, что холодно, что все одноклассники не так живут.
В итоге Таня продала дом за полцены какой-то семье из Узбекистана, погасила долги и осталась ни с чем. Тогда-то и пришла к брату.
— Серёж, ну пусти нас временно, — умоляла она, стоя на пороге.
Лариса была против. Она видела, что Таня за всю жизнь нигде дольше полугода не работала — то начальство плохое, то коллектив не тот, то работа не та. А дети уже тогда были злыми и наглыми — матери на шею садились, а та только руками разводила: «Что поделаешь, подростки».
Но Серёжа не смог отказать сестре. И Лариса уступила — муж был добрым, мягким, чужую боль принимал близко к сердцу.
Так Танькина семья и поселилась в их двушке. Взрослые на одном диване, дети на раскладных креслах. Обещанный месяц превратился в полгода, потом в год.
А потом Серёжи не стало.
— Лариса, — рыдала Таня на поминках, — я понимаю, что тяжело, но ты же не выгонишь нас сейчас? Дети школу заканчивают, я работу ищу. Мы же семья.
И Лариса снова уступила. Горе съедало её изнутри, хотелось спрятаться, закрыться, переждать боль. А тут ещё четыре человека, которые требовали внимания, заботы, еды.

Но месяцы шли, а ничего не менялось. Таня устроилась продавцом в газетный киоск, но через два месяца уволилась — говорила, что хозяин к ней приставал. Потом была работа уборщицей в больнице — тоже месяц, потом «сломалась спина». Потом ещё что-то, ещё…
Виталий появился полгода назад. Таня познакомилась с ним в соцсетях, он приехал из областного центра «по любви». Обещал жениться, работу найти, детей признать. Пока не женился, работу не нашёл, а детей воспитывать не пытался. Зато к холодильнику привык быстро.
— Знаешь что, Лариса, — Таня вдруг отложила вилку и посмотрела на неё с каким-то новым выражением лица. Решительным и наглым одновременно. — Мне надоело постоянно выпрашивать еду. Я тут подумала… ты должна нас кормить лучше — ну никакого разнообразия. Всё такое дешевое, аж противно.
Лариса медленно обернулась от плиты. В руках у неё была деревянная ложка, с которой ещё капала подлива.
— Моя обязанность?
— Конечно. — Таня откинулась на спинку стула с видом человека, который наконец-то решил сказать правду. — Мы тут живём почти два года, значит, ты полноценные хозяева. Не хочешь, не нравится — можешь вообще съезжать. Квартира-то наполовину моя по закону.
— Что значит наполовину твоя?
Таня усмехнулась — так, как усмехаются люди, которые считают себя очень умными.
— А то, что Серёжа мой родной брат был. Я имею право на наследство. Могу через суд долю выделить. И вообще… — она понизила голос до шипения, наклонившись через стол, — ты обязана нас кормить! И точка!
Виталий одобрительно кивнул, продолжая жевать картошку. Видно было, что эта речь готовилась заранее, обсуждалась между ними.
— Мама права, — буркнул Никита, не отрываясь от телефона. — Мы же не просто так тут живём.
— Да, — поддержала Кристина. — И вообще, тётя Лара, ты же не жадная. Ты добренькая, а мы родственники — надо бы лучше стараться.
Лариса чувствовала, как внутри всё закипает. Два года терпения, два года жалости и сочувствия, два года экономии на всём, чтобы прокормить чужую семью — и вот результат. Требования, ультиматумы, угрозы.
Но тут в дверь раздался знакомый стук — три коротких, потом два длинных. Зинаида Петровна.
— Лариса! — донёсся голос из прихожей. — Кастрюлю принесла! Борщ получился..
— Заходи, Зина!
На кухню вошла худенькая женщина лет пятидесяти с живыми карими глазами и седыми волосами, собранными в аккуратный пучок. Зинаида Петровна работала почтальоном уже двадцать лет, знала про каждую семью в посёлке всё — кто сколько пенсии получает, кто с кем ссорится, кто где работает.
Но при этом была деликатной, никого не осуждала, а если и вмешивалась в чужие дела, то только когда видела настоящую беду.
Она поставила алюминиевую кастрюлю на стол и сразу почувствовала напряжение на кухне. Таня сидела с красным лицом, Виталий смотрел в тарелку, дети притихли. А у Ларисы руки дрожали.
— Я вам помешала? — осторожно спросила Зинаида Петровна, снимая вязаную шапочку.
— Да нет, что ты, — Лариса попыталась улыбнуться, но получилось криво. — Мы тут просто… обсуждали семейные дела.
— Обсуждали её обязанности по дому, — не удержалась Таня, видимо, решив, что раз уж начала, то нужно идти до конца. — Она же нас содержит, вот пусть и кормит как следует. А то каждый день одно и то же — картошка, да макароны.
Зинаида Петровна медленно повернулась и внимательно посмотрела на Таню.
— Ты серьёзно? — спросила она таким тоном, будто услышала что-то неприличное. — Ты заставляешь родную невестку ещё лучше кормить твою семью?
— А что такого? — Таня вскинула подбородок с вызовом. — Мы тут живём. Мы родственники её мужа. Значит, должна обеспечивать.
— Живёте?! — Зинаида Петровна даже привстала от удивления. — Да у нас во дворе уже все смеются, что вы у неё паразитируете! Марина вчера говорила: смотри, опять Танька с выводком дома телевизор смотрит, а Лариска всё на себе таскает.
Таня побледнела. Лицо её стало серо-зелёным.
— Кто смеётся? Какая Марина?
— Да все смеются! — Зинаида развела руками. — Ты думаешь, в посёлке что-то можно скрыть? Лариса на двух работах вкалывает — в магазине до обеда, потом в школе полы моет. А вы тут курорт устроили. Твой Виталий вообще полгода не работает — только на лавочке с собутыльниками сидит да пьёт на Ларискины деньги.
— Это не ваше дело, — прошипела Таня, но голос у неё дрогнул.
— Ещё как моё! — Зинаида встала во весь рост. — Лариса мне как родная дочка. Серёжа просил её беречь, когда в больнице лежал. А вы что творите? Серёжа в могиле переворачивается, наверное. Он сестру любил, но не для того с женой квартиру обустраивал, чтобы вы тут как цыгане табором встали.
Кристина шмыгнула носом и опустила глаза. Никита отложил телефон и впервые за долгое время посмотрел на тётю Лару внимательно — увидел усталость в её глазах, худые руки, дешёвую одежду.
Виталий покраснел и заёрзал на стуле, не зная, куда деть глаза.
— Зинаида Петровна, — попробовала вмешаться Лариса, — не надо так…
— Нет, Лара, пусть знают правду. — Зинаида повернулась к Тане. — Ты хоть понимаешь, что творишь? Женщина одна осталась, горюет по мужу, еле сводит концы с концами, а ты ей ещё и мозги выносишь. Требуешь, чтобы она вас кормила! Да это же позор на весь посёлок!
— Мы никого не заставляли… — начала было Таня, но голос предал её.
— Да ну? А кто истерики устраивал, когда Лариса намекала, что пора бы и съезжать? Кто в ноги кидался: «Не выгоняй детей на улицу, мы же семья»? Валя с первого этажа всё слышала — стены тонкие. Вся улица знает, как ты тут спектакли разыгрываешь. А сейчас опять уверенность почувствовала?
Таня сидела, опустив голову. Уши у неё горели от стыда.
— А теперь ещё и требуешь, чтобы она вас лучше содержала? — продолжала Зинаида, и голос её становился всё строже. — Да у нас в посёлке про таких говорят — нахлебники. Тунеядцы. Таня, ты мать двоих детей, а ведёшь себя хуже малолетки. И детей своих научила попрошайничать.
— Мы не попрошайничаем, — пробормотал Никита, но неуверенно.
— Не попрошайничаете? А кто каждый день ноет, что колбасы хочется? Кто требует покупать дорогие йогурты и мороженое? Кто орёт, что каша невкусная, а хлеб чёрствый? — Зинаида посмотрела на подростка строго. — Хоть раз спросили, тяжело ли тёте Ларе вас кормить? Или думали только о себе? Иди сам заработай!
Никита покраснел. Кристина заплакала — тихо, в голос.
— Мы не знали, что так тяжело… — пробормотала девочка.
— Не знали? — Зинаида фыркнула. — А надо было знать. В твоём возрасте уже пора головой думать. Тётя Лара за копейки работает, а вы требуете, как будто она вам чем-то обязана.
Лариса стояла у плиты и смотрела, как разваливается Танькина многомесячная игра. Все эти слёзы, истерики, разговоры о семье и памяти о Серёже — а оказывается, весь посёлок давно всё понял и осудил.
— Ещё и с наследством угрожаешь, — продолжала Зинаида, обращаясь к Тане. — Думаешь, я не знаю, что ты адвокатам звонила? А ты решила попугать, права качать.
— Я просто… — попыталась оправдаться Таня.
— Просто решила совсем обнаглеть. — Зинаида покачала головой. — Ладно, я сказала, что думаю. А вам решать — жить по-человечески или дальше людей позорить.
И она направилась к двери.
— Лара, если что — знаешь, где меня найти. А вы, — она оглянулась на Танькину семью, — думайте, пока не поздно. В посёлке долго помнят, кто как себя ведёт.
Когда за ней закрылась дверь, на кухне повисла мёртвая тишина. Только на плите тихо шипела остывающая картошка, да где-то в стене журчала вода в трубах.
Таня сидела белая как мел, уставившись в одну точку. Виталий изучал рисунок на клеёнке. Дети переглядывались.
— Значит, все знают… — тихо проговорила Таня. — Весь посёлок нас обсуждает.
— И смеются, — добавил Никита ещё тише.
Лариса медленно выключила газ. Спокойно сняла фартук и повесила его на крючок. Убрала кастрюлю с картошкой — завтра разогреет, поест одна.
— Ну что, — сказала она ровным голосом, поворачиваясь к семейству, — весь посёлок знает, как вы у меня обедаете. Приятного аппетита где-нибудь ещё.
Она взяла тарелки со стола и понесла их к раковине. Включила воду, выдавила моющее средство.
— Лара… — неуверенно начала Таня.
— Завтра к вечеру освободите квартиру, — не оборачиваясь, сказала Лариса и начала мыть посуду. — Хватит. Два года терпела, больше не буду.
— Но куда мы поедем? Денег у нас нет, работы нет…
— Не знаю. И знать не хочу. — Лариса продолжала методично мыть тарелки. — Должно было кончиться ещё год назад.
Виталий шумно встал из-за стола.
— Пошли, Тань. Тут больше делать нечего.
— Но дети… школа…
— В областном центре тоже есть школы, — отрезала Лариса. — Найдёшь съёмную на свои деньги.
— Каких деньги? Ты же знаешь…
— Знаю. Знаю.
Лариса повернулась к ним лицом. Глаза её были сухими, но очень усталыми.
— Уходите. Пожалуйста. Мне нужна тишина.
Они поплелись в комнату. Слышно было, как хлопают дверцы шкафов, шуршат пакеты, тихо переговариваются.
А Лариса мыла посуду и впервые за два года чувствовала, что может свободно дышать. Завтра будет трудно — золовка может передумать и опять устроить театр с надрывом и истерикой.
Но это будут завтра, и она не отступит.
Серёжа, наверное, понял бы. В конце концов, он тоже устал бы терпеть чужую неблагодарность.

















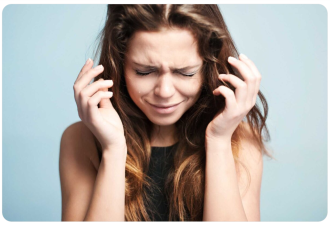 Супруг вел двойную жизнь
Супруг вел двойную жизнь