— Ты либо сейчас же объясняешь своей матери, что это наш дом, либо я объясняю это через участкового.
Я сказала это так спокойно, что сама испугалась собственного голоса.
Петя замер посреди прихожей, с ключами в руке, как будто не ключи держал, а гранату без чеки. За его спиной — чемодан на колёсиках, новый, блестящий, ещё с биркой. И Зинаида Васильевна, развернувшая плечи так, будто её сюда привезли не на электричке, а на церемонию награждения.

— Ой, слушайте… — она вытянула губы трубочкой и посмотрела на меня сверху вниз. — Участкового она позовёт. В своей семье. Петенька, ты слышал?
Петя слышал. Он всегда всё слышал. И всегда делал вид, что у него внезапно заложило уши.
Мы стояли в новой квартире, где ещё пахло краской, ламинатом и этой нашей дурной надеждой: вот сейчас заживём. Тёплая трёшка в кирпиче, первый этаж — удобно с коляской, а на кухне дверь на маленький палисадник, где я уже мысленно сажала укроп, клубнику и свою нормальную жизнь. Мы к этому шли три года. Без отпусков, без «давай посидим в кафе», без новых зимних сапог — я стельки подкладывала и ругалась на свои подошвы, как на предателей. Петя пахал на двух работах. Я после декрета — бухгалтерия, потом репетиторство, потом снова бухгалтерия. Когда банк одобрил ипотеку, мы выдохнули так, будто нас отпустили из подвала.
И вот, кажется, всё — коробки разобраны, табуретки новые, бокалы на столе. Я даже успела сесть в домашнем трикотаже и на секунду почувствовать себя счастливой. До предела. Петя рядом, дети в комнате играют на полу.
Ага. Счастье продлилось ровно до того момента, пока в дверь не вошла его мать.
— Мам, — Петя попытался заговорить первым, виновато и осторожно, как человек, который сейчас попросит прощения за погоду. — Ты же вроде собиралась сначала… ну… в санаторий? Врач говорил, тебе отдохнуть надо…
— Всё, — отрезала Зинаида Васильевна и поставила чемодан так, что колёса громко скрипнули по плитке. — Передумала. Лучше у детей, чем среди чужих. И вообще. Я вам помогала с первым взносом. Так что не надо тут эти… глаза делать.
Она была как всегда: строгая, надушенная так, что у меня нос среагировал первым и предательски чихнул. Волосы — «химия», губы с розовой каймой, взгляд — как у прокурора, который пришёл не разбираться, а фиксировать состав преступления.
Я посмотрела на Петю. Он уже начинал дрожать подбородком. Этот его дрожащий подбородок — отдельная семейная беда. Он включается в трёх случаях: когда у ребёнка температура, когда начальник орёт и когда мама говорит «я решила».
— Мам, — пробормотал он, — ну… мы не планировали… у нас же дети… тут не так уж…
— Не так уж что? — она уселась на новый диван, будто проверяла его на прочность не телом, а правом собственности. Сняла сапоги и поставила их на коврик так, как будто коврик ей тоже что-то должен. — Не так уж просторно? Зато не в общаге. Я вам четверть суммы внесла. Четверть. Это, между прочим, очень прилично. Так что давай без драм.
Я вдохнула. Выдохнула. В голове на секунду вспыхнула картинка: как я беру этот наш новый диван и выношу его во двор — вместе с ней. Но я человек культурный. Я бухгалтер. Я умею сдерживаться. Я умею считать.
— Зинаида Васильевна, — сказала я максимально вежливо, той улыбкой, которой улыбаются клиентам, пришедшим ругаться. — Может, всё-таки вы поедете туда, куда собирались? Вам же рекомендовали… вам же легче будет.
— Ой, началось, — она махнула рукой и пошла на кухню, заглянула внутрь, как ревизор. — Красота-то какая! Гарнитур новенький, всё блестит. А у меня дома кран течёт, батареи старые, соседи дымят в подъезде. Так что всё. Я теперь с вами. Родня должна держаться вместе.
Вот так. Без «можно», без «как вы думаете». Сразу — «я теперь с вами».
Петя молчал. Как всегда. Он и раньше молчал, когда она решала за нас: в какой сад отдавать старшую, к какому врачу вести младшего, в какой магазин «правильно» ходить. Она даже спорить умела так, что спор превращался в обвинение. А Петя рядом всегда делал вид, что его нет.
Я почувствовала, как внутри поднимается злость — не горячая, а вязкая, тяжёлая, как мокрое одеяло.
— Подождите, — сказала я, глядя ей прямо в глаза. — Вы сюда… надолго?
— А чего ты так напряглась? — она прищурилась. — Ты что, уже срок мне выписываешь? Я к детям приехала. К сыну. К внукам. Я же не чужая.
— Я не про это, — старалась держать голос ровным. — Я про бытовое. У нас расписание, работа, дети… Нам нужно понимать.
— Понимать ей нужно, — передразнила она. — Понимать надо было, когда деньги брали. Тогда всё понятно было. А теперь, значит, я мешаю?
Она повернулась к Пете, будто меня в комнате не было:
— Петенька, ты только послушай. Твоя жена меня тут уже на выход провожает. После всего.
Петя сглотнул. И снова молчание.
Я почувствовала, что если сейчас промолчу — дальше меня будут двигать как мебель. В этой квартире я стану не хозяйкой, а обслуживающим персоналом при семейном собрании.
— Квартира оформлена на нас с Петей, — сказала я тихо. — Документы на двоих. Это не обсуждение чувств, это юридический факт.
— Юридический факт, — фыркнула она. — Ты мне тут не лекции. Без моих денег вы бы ещё лет пять мотались по съёмным. Так что я тут не просто «в гостях». Считай, я в деле.
— Мам, — Петя вдруг попытался подать голос, — ну… мы же… мы договаривались… что ты не будешь… командовать.
— Договаривались? — Зинаида Васильевна подняла бровь. — Когда это мы с тобой договаривались? Ты мне просто говорил: «мам, помоги». Я помогла. А теперь ты мне говоришь: «мам, не лезь»? Очень удобно. Слушай, ты хорошо женился. Хозяйственная. Только характер… ух. Не дай никому.
Вот тут у меня внутри щёлкнуло. Не громко — но так, что дальше уже ничего не вернёшь как было.
— Вы сейчас серьёзно? — спросила я. — Вы приехали в нашу квартиру, ставите чемодан в прихожей и читаете мне мораль, какая я не такая?
— Я говорю, что мне здесь будет лучше, — отрезала она. — И точка. А если ты против — подумай, кому это нужнее. Ты молодая, работаешь, дети у тебя. А я? Пенсия — смешная. Жизнь — одна. Мне куда?
Куда. В любую сторону, где не моя кухня, не мой диван и не мои дети, которых она будет воспитывать вместо меня.
В ту ночь я почти не спала. Петя ходил по квартире в носках, с чашкой чая, как призрак. Иногда останавливался у окна и смотрел на улицу, будто там должен был появиться ответ. Потом присел на край кровати.
— Ну что ты так… — сказал он тихо. — Она же не навсегда. Ну… месяц. Может, два. Она же… она одна.
— Петя, — я повернулась к нему, — если она въедет, она уже не выедет. Ты же понимаешь. Она начнёт проверять, чем я кормлю детей, куда я кладу полотенца, как я «неправильно» разговариваю. И ты будешь стоять рядом и делать вид, что тебя это не касается.
Он промолчал. Снова. И этим молчанием подтвердил всё сказанное.
На следующий день она начала «обживаться». Притащила банки с какими-то мазями, каплями, «для суставов», «от нервов». Повесила свой халат в ванной так уверенно, будто у нас там был специально оставлен крючок с надписью «маме». Положила свои таблетки в наш кухонный ящик, вытеснив детские витамины. Сказала:
— Ой, как хорошо. Прямо как дома.
И я поняла, что война началась. Пока без крика. Но уже с разведкой и захватом территории.
К вечеру она добралась до холодильника. Открыла, посмотрела на продукты, как на подозреваемых.
— А почему мясо такое? — спросила с тем самым тоном, которым обычно спрашивают: «А почему вы не платите алименты?»
— Потому что я замораживала, — ответила я. — Я не бегаю каждый день на рынок.
— Ага, понятно, — она хлопнула дверцей. — Ничего, я сама приготовлю нормально. Не этими вашими быстрыми штуками. Как положено.
Я села на табуретку и вцепилась в него пальцами. Меня трясло от злости и бессилия. Хотелось орать. Но я снова пыталась быть взрослой.
— Зинаида Васильевна, — сказала я позже, когда дети уже были в комнате и Петя делал вид, что очень занят телефоном. — Давайте определим сроки. Ну хотя бы примерно. До сентября? До конца месяца? Нам нужно планировать.
Она замерла, медленно повернулась ко мне, и на лице у неё появилось выражение театральной обиды.
— А ты меня выгоняешь? — громко спросила она, так, чтобы Петя слышал обязательно. — Вот так, с порога? После всего?
— Я не выгоняю. Я спрашиваю.
— А вот и выгоняешь! — повысила голос она, и глаза у неё в секунду стали мокрыми. — Я вдова! Пенсия маленькая! Сын один! А ты… ты уже на развод намекаешь, да? Решила Петьку от матери отрезать?
— Чего? — Петя высунулся из коридора, как человек, которого вызвали на экзамен, а он не готов.
— Вот! — она метнулась к нему. — Слышал? Она меня выставляет! Мать твою родную! Стыдно тебе должно быть! Вот тебе и жена!
Петя посмотрел на меня. Потом на неё. Потом снова на меня. Глаза метались, как у человека, которого одновременно пытаются утопить и спасти.
— Мам, ну не надо… — начал он.
— Выбирай, — резко сказала она, и слёзы у неё тут же высохли, как будто их выключили. — Или она, или я. Всё. Хватит.
И вот тут случилась первая настоящая вспышка — не моя истерика, а моё решение. Я встала, закрыла дверь кухни так, что стекло дрогнуло.
— Отлично, — сказала я. — Выбирай, Петя. Потому что я больше не собираюсь жить под чужие правила в собственной квартире. И под чужие духи тоже.
Я ушла в спальню, села рядом с кроваткой младшего. Он спал, сопел в одеяло. Старшая в своей комнате тихо шуршала игрушками. А в коридоре за стенкой началась перепалка. Слова я не разбирала — только интонации. Потом тишина.
На третий день Зинаида Васильевна перестала нападать в лоб и включила режим «тихий яд». Она не запрещала, она комментировала. Всё.
— Марина, ты опять детям эти йогурты? Ты состав читала?
— Марина, а почему у вас полотенца так висят? Непонятно.
— Марина, у тебя волосы… ну, странные. Ты сама красишься?
Я терпела. Держалась, потому что дети, ипотека, усталость, потому что «надо быть умнее». И потому что Петя каждый раз смотрел на меня глазами человека, который просит: «Только не сейчас. Только не устраивай». Он зависел от неё, как школьник. Ему сорок, а внутри — всё тот же мальчик, который хочет услышать «молодец».
На восьмой день она вошла в ванную без стука. Я стояла с намыленной головой, вода текла по шее, мыло щипало глаза.
— Ты чего так долго? — спросила она с раздражением. — Вода не бесплатная. Я вообще-то ноги хотела попарить, у меня суставы.
Я еле удержалась, чтобы не сказать то, что нельзя сказать при детях и вообще в приличном обществе.
— Зинаида Васильевна, — выдавила я, — можно хотя бы в ванной быть спокойно?
— Не нервничай, — она усмехнулась. — Тебе к врачу надо. У тебя лицо какое-то… напряжённое. Или мужика тебе не хватает.
И вышла, оставив после себя запах духов и ощущение, что меня только что вытерли об коврик у двери.
Вечером я подошла к Пете. Без истерики. Без крика. С таким холодом внутри, который обычно бывает перед экзаменом или перед увольнением.
— Или она уезжает, или я. Всё. Без «подумаем».
Он побледнел.
— Марин… ну ты же понимаешь… ей тяжело. Она одна. Мы же семья…
— Мы — семья, — повторила я. — А не ты и она. Я не могу больше. Она лезет в шкафы, трогает мои вещи, учит меня жить. Я уже не могу даже закрыть дверь без ощущения, что сейчас меня обвинят.
— И что ты хочешь? — выдохнул он. — Чтобы я выгнал мать?
— Да, — спокойно сказала я. — Потому что приглашал её не я.
Петя молча взял куртку и ушёл. Просто ушёл. Ночью не пришёл. Я кормила младшего, укладывала старшую, а внутри всё дрожало: он выбирает. Он уже выбрал. Просто не сказал вслух.
Утром он вернулся помятый, с запахом сигарет и какого-то дешёвого алкоголя, как будто пытался доказать себе, что он «мужик», а не сынок при маме. Я не спросила, где был. Он не объяснил.
Через день телефон зазвонил так, как звонят только неприятности. Моя мама. И голос у неё был тот самый — ровный, опасный.
— Марина, — сказала она, — мне сейчас звонила Зинаида. Сказала, что ты её «выставила на улицу».
Я даже усмехнулась. Представила Зинаиду Васильевну «на улице» — с чемоданом, с духами, с прокурорским взглядом. Её «улица» — это максимум подъезд, где ей не нравится запах.
— Мам, — ответила я, — она звонит тебе из нашей кухни. Так что улица у неё очень тёплая.
— Поняла, — сказала мама. — Держись. И смотри… она не просто так звонит.
Я положила трубку и в тот же момент услышала из кухни голос Зинаиды Васильевны — она разговаривала по телефону. Тихо, но я узнала интонации. Она не жаловалась. Она оформляла поддержку. Как будто готовила почву.
— Да-да, — говорила она кому-то, — я вложилась, я имею право… Конечно… Пусть попробуют…
Я замерла.
«Вложилась. Имею право».
Это уже не про «пожить». Это про захват. Про бумажки. Про то, что она в голове давно решила: квартира — не наша, а её инструмент.
Я вошла на кухню. Она быстро сбросила звонок и улыбнулась.
— Что ты такая? — спросила сладко. — Чаю хочешь?
И в этот момент я поняла: дальше будет хуже. Она уже не просто свекровь, которая лезет в кастрюли. Она играет серьёзно.
Я посмотрела на Пету — он сидел за столом и жевал, не поднимая глаз.
А мне вдруг стало ясно: если сейчас не поставить точку, то точку поставят за меня. Бумагой. Печатью. И моей же рукой, которой я когда-то подписывала «спасибо за помощь».
Я вытерла ладони о штаны и сказала:
— Петя, после ужина мы разговариваем втроём. И без твоего молчания.
Зинаида Васильевна улыбнулась шире, как будто я сама принесла ей нужный повод.
— Конечно, — сказала она. — Давно пора. Я как раз всё выяснила.
И вот на этих её словах у меня внутри стало пусто и холодно. Потому что если человек говорит «я всё выяснила», значит, он уже не просто приехал «пожить». Он приехал оформлять территорию. И он уверен, что ему дадут.
Петя сидел за столом, уткнувшись взглядом в тарелку. У него был вид человека, который сейчас надеется, что гроза пройдёт стороной. Но гроза уже стояла в прихожей с чемоданом. И пахла духами.
Дети в комнате возились тихо, как будто сами чувствовали: если шуметь — кто-то начнёт орать. Старшая иногда умеет быть взрослой лучше нас всех. Младший сопел в кроватке, и я от этого сопения держалась за реальность.
Я встала, поставила чайник, хотя не хотела ни чая, ни разговоров, ни вообще жизни в этом формате. Просто нужно было занять руки. Если не занять руки — я могла сделать что-то не то. А я не хотела «не то». Я хотела правильно. Я хотела справедливо. Я хотела, чтобы меня услышали.
Мы сели за стол. Трое взрослых людей, которые играют в семью, хотя по факту это суд. И обвиняемая тут — я.
Зинаида Васильевна положила перед собой блокнот. Серьёзно. Блокнот. Ещё ручку достала. Как будто сейчас будет заседание комиссии по распределению жилплощади.
— Значит так, — сказала она. — Чтобы не было лишних эмоций. Я человек прямой. Я помогла вам. Я вложила деньги. Четверть суммы. И я хочу, чтобы это было зафиксировано.
Петя поднял глаза.
— Мам… ну мы же… это же помощь была. Мы не…
— Не-не-не, — она подняла палец. — Не надо. Помощь — это когда подарили и забыли. А я не забыла. Потому что у меня пенсия. Потому что у меня здоровье. Потому что я не хочу остаться на улице.
Я посмотрела на неё и вдруг поймала себя на мысли: она ведь даже не врёт. В её голове это правда. Она правда считает, что купила себе здесь место. Не квартиру. Не комнату. А право командовать.
— И как вы это хотите зафиксировать? — спросила я.
— Дарственная, — сказала она спокойно. — Петя оформит на меня долю. Четверть. Как я и внесла. Тогда я буду защищена. И никто меня не выгонит.
Петя поперхнулся.
— Мам… ну ты… ты чего… Мы же не выгоняем.
— Ты слышал, как она разговаривает? — Зинаида повернулась к нему. — Она уже угрожала участковым. Она меня в ванной чуть не задушила взглядом. Я не маленькая девочка. Я понимаю, к чему всё идёт.
Я молчала. Потому что если бы я сейчас заговорила — я бы сказала такое, после чего уже нельзя было бы жить в одном подъезде, не то что в одной квартире.
Петя нервно потер лоб.
— Мам, доля — это серьёзно. Это потом… это продажа… это ипотека…
— А что ипотека? — свекровь пожала плечами. — Ипотека на вас. Вы платите. А я просто буду защищена. Мне не надо продавать. Мне надо жить.
— Где? — спросила я.
— Как где? Здесь, — она сказала это так, будто вопрос был идиотский. — Я же уже здесь. Я же уже устроилась.
Я посмотрела на Петю.
— Петя, — сказала я тихо, — ты это слышишь?
Он сидел, как будто ему поставили диагноз.
— Марин… ну может… ну правда… ей же… она пожилая…
— Петя, — перебила я, и голос у меня стал жёстче. — Она хочет долю. Она хочет бумагу. И она хочет жить здесь. Это не «пожилая». Это захват.
Зинаида Васильевна улыбнулась.
— Какая ты умная. Слово-то нашла. «Захват». А то, что я вас спасла от съёма, это как называется? А? Благотворительность?
Я почувствовала, как у меня в горле поднимается ком. Но не от слёз. От злости.
— Вы внесли деньги, — сказала я. — Да. И мы вам благодарны. Но мы не подписывали никаких условий. Ни расписок. Ни договоров. Это была помощь. Вы сами так говорили. «Детям». Помните?
Она мгновенно стала жёсткой.
— Я говорила то, что нужно было говорить. Чтобы вы не отказались. Я вас знаю. Ты бы начала выкручивать носом, что «мы сами». А Петя бы, как всегда, промолчал.
Петя вздрогнул.
— Мам…
— Что «мам»? — она повернулась к нему резко. — Я тебе жизнь отдала. Я одна тебя тянула. Я работала, пока другие по морям ездили. Я тебя выучила. Я тебя на ноги поставила. И теперь я должна сидеть в своей развалюхе, пока ты тут в тепле?
Я слушала и понимала: вот оно. Настоящее. Не квартира. Не деньги. Ей нужна власть. Ей нужен долг. Чтобы Петя снова стал мальчиком. Чтобы я стала лишней.
Петя тихо сказал:
— Мам, но Марина права. Мы же семья. Мы можем тебе помогать… но доля… это…
— Значит, ты выбираешь её, — спокойно сказала Зинаида Васильевна.
И вот это было страшно. Не крик, не истерика. Спокойствие. Она уже давно приготовила этот нож. И теперь аккуратно вставляла его в Петю.
— Мам, перестань, — попросил он.
— Хорошо, — сказала она. — Тогда слушайте дальше.
Она открыла блокнот. И начала читать. Прямо как в школе, когда тебя вызывают к доске, а ты знаешь: сейчас будут позорить.
— Первое. Я живу в маленькой комнате. Мне нужна большая. У вас есть спальня. Вы можете перейти в детскую, дети пока маленькие. Второе. Я буду готовить. Потому что Марина готовит… как попало. Третье. Деньги. Петя, ты должен отдавать мне десять тысяч в месяц. На лекарства. Четвёртое. Дети. Старшую нужно водить в воскресную школу, потому что…
Я не выдержала.
— Стоп, — сказала я. — Вы сейчас серьёзно?
Она подняла глаза.
— Абсолютно. Это называется порядок. Семейный порядок.
— Это называется диктат, — сказала я.
Петя вскочил.
— Мам, ну ты перегибаешь! — впервые за всё время он сказал это громко.
И вот тут Зинаида Васильевна резко встала. Так резко, что стул скрипнул.
— Я перегибаю? — спросила она. — Это я перегибаю? После всего? Да ты… ты…
Она резко ударила ладонью по столу.
— Ты слабак, Петя. Ты всегда был слабак. И вот она тебя под себя подмяла. А я предупреждала! Я говорила: женишься — она тебя съест! И что? Съела. Ты даже мать защитить не можешь!
Петя побледнел. Я видела, как у него дрожат губы.
— Мам… — сказал он. — Ты… ты сейчас не права.
— Не права? — она засмеялась. — Хорошо. Тогда я сделаю по-другому.
И она достала телефон.
— Алло, Светочка? Да. Я. Да, я у них. Да, всё так, как я говорила. Она меня выгоняет. Да. Запиши. Если что, у меня есть свидетели. Я не собираюсь молчать.
Я смотрела на неё и понимала: она пошла в публичность. Она уже запускает слухи. Уже готовит «родню», чтобы Петю добить стыдом.
— Вы сейчас кому звоните? — спросила я.
— Людям, — сказала она. — Которые понимают, что такое уважение к матери. Не то что ты.
Я подошла к Пете. Встала рядом. И сказала очень тихо, но так, чтобы он услышал.
— Сейчас. Сейчас ты решаешь. Не завтра. Не через неделю. Сейчас.
Он посмотрел на меня. Потом на неё. И вдруг сказал:
— Мам. Хватит. Ты уезжаешь.
И я впервые за эти дни почувствовала что-то похожее на облегчение. Маленькое. Слабое. Но настоящее.
Зинаида Васильевна замерла.
— Что? — переспросила она.
— Ты уезжаешь, — повторил Петя. — Сегодня. Мы тебе поможем. Мы купим билет. Мы можем оплатить тебе ремонт. Но ты не будешь жить с нами. И долю ты не получишь.
Она стояла и смотрела на него так, будто он только что ударил её.
— Ты… ты мне это говоришь? — прошептала она. — Мне? После всего?
— Да, — сказал Петя. И голос у него был не уверенный, но твёрдый. — Потому что я больше не могу.
И вот тут она взорвалась. Не слезами. Не жалостью. А яростью.
— Ах ты… — она резко повернулась ко мне. — Это ты! Это ты его настроила! Ты! Ты разрушила семью!
— Семью разрушаете вы, — сказала я.
Она шагнула ко мне ближе.
— Да ты… — она захлебнулась словами, и вдруг, неожиданно, ударила меня ладонью по плечу. Не сильно. Но унизительно. Как собаке. Как чужой.
Я отшатнулась. Петя вцепился в её руку.
— Мам! Ты что делаешь?!
— Я делаю то, что должна! — заорала она. — Я защищаю своего сына! От этой…
Она не договорила. Потому что в этот момент старшая вышла из комнаты. В пижаме. С сонным лицом. И посмотрела на нас.
— Пап… — сказала она тихо. — Почему бабушка кричит?
И этот вопрос был хуже любого удара. Потому что он был детский. Прямой. Без защиты. И Петя вдруг как будто проснулся.
Он отпустил руку матери. И сказал:
— Мам. Собирай вещи.
Зинаида Васильевна стояла. И вдруг её лицо стало совсем другим. Не злым. Не прокурорским. А каким-то… голым. Старым. Уязвимым. И от этого было ещё хуже. Потому что я знала: сейчас она включит другую роль.
— Петенька… — сказала она дрожащим голосом. — Ты же… ты же не можешь так… Я же мать…
— Мама, — сказал он. — Я тебя люблю. Но ты не будешь жить с нами. Всё.
Она посмотрела на меня. И в её взгляде было обещание.
— Ты пожалеешь, — сказала она тихо. — Ты ещё узнаешь, что такое одиночество. Он тебя бросит. Такие, как он, всегда возвращаются к матери.
Я молчала. Потому что отвечать было бессмысленно. С такими разговорами не спорят. Такие разговоры переживают.
Через два часа она уехала. Чемодан катился по плитке так же громко, как приехал. В прихожей остался запах её духов, как след от сигареты на чистой скатерти.
Когда дверь закрылась, Петя сел на пол. Прямо на пол. В коридоре. И закрыл лицо руками.
Я стояла рядом. И не знала, что делать. Обнять? Ударить? Пожалеть? Выгнать? Потому что всё это хотелось одновременно.
— Ты понимаешь, что она теперь не отстанет? — спросила я.
Он кивнул.
— Да.
— Она будет звонить всем. Родне. Твоим друзьям. Моей маме. Она будет говорить, что я тебя отняла. Что я тебя «сломала». Что я тебя заставила.
Он снова кивнул.
— Да.
— И ты выдержишь?
Он поднял голову. Глаза у него были красные.
— Я не знаю, — сказал он честно. — Но я хочу попробовать.
Я вздохнула. И вдруг поняла, что у меня нет сил на красивую речь. Нет сил на обещания. Есть только одно.
— Завтра меняем замки, — сказала я.
Петя кивнул.
— Уже завтра.
На следующий день мастер пришёл в десять утра. Мужик в грязных ботинках, с сумкой инструментов и лицом человека, которому плевать на наши семейные трагедии. Он сделал свою работу быстро. Старый замок снял, новый поставил. Щёлкнуло.
Три ключа. Один мне. Один Пете. Один запасной.
И когда мастер ушёл, Петя взял старые ключи и положил их на стол.
— Что с ними делать? — спросил он.
Я посмотрела на эти ключи. Маленькие, металлические, обычные. Но на самом деле — это была власть. Это был доступ. Это была её уверенность, что она всегда может войти.
Я взяла их. И пошла к мусоропроводу.
И выкинула.
Не красиво. Не символично. Просто выкинула, как выкидывают всё, что больше не нужно.
Петя стоял в коридоре. Смотрел на меня.
— Ты злишься? — спросил он.
Я посмотрела на него.
— Я устала, — сказала я. — Я не хочу больше жить в режиме «пока мама не решила».
Он кивнул.
— Я понял.
— Ты правда понял? — спросила я. — Или сейчас просто боишься, что я уйду?
Он молчал. Потом сказал:
— Я понял. Но мне страшно.
— Мне тоже, — ответила я. — Только я с этим страхом живу уже десять лет.
Он подошёл ближе.
— Марин… я правда… я не хотел…
— Ты всегда «не хотел», Петя, — сказала я. — Но это не отменяет того, что ты делал. Ты молчал. И твоё молчание всегда было против меня.
Он опустил глаза.
— Я думал, так проще. Не ссориться.
— Проще кому? — спросила я. — Тебе. Ей. Но не мне. Не детям.
Он сел на табуретку и вдруг сказал:
— Она сегодня утром звонила.
— И? — я напряглась.
— Сказала, что подаст в суд. Что у неё есть свидетели, что она «вкладывалась». Что она добьётся доли.
Я усмехнулась. Сухо.
— Пусть подаёт. У неё нет ничего. Ни договора, ни расписки.
Петя посмотрел на меня.
— Марин… она сказала ещё кое-что.
Я почувствовала, как внутри сжалось.
— Что?
Он сглотнул.
— Она сказала… что у неё есть запись. Как ты кричала. Как ты угрожала участковым. И что она это покажет опеке.
Я на секунду даже не поняла, что он сказал. Опеке. Это слово было как ледяная вода.
— Ты сейчас серьёзно? — спросила я.
— Да, — сказал он. — Она сказала, что ты «психованная», что дети в опасности, что ты можешь их… ну…
— Она совсем с ума сошла, — сказала я тихо.
И вот тут я впервые почувствовала не злость. А страх. Настоящий. Потому что деньги — это одно. Квартира — другое. Но дети… Дети — это то, чем шантажируют, когда у человека внутри нет ничего святого.
Я села напротив Пети.
— Слушай меня внимательно, — сказала я. — Если она хоть раз попытается полезть к детям, я не буду больше играть в «семейные отношения». Я пойду в полицию. Я напишу заявление. Я буду фиксировать всё. Я найму юриста. Я сделаю так, что она к ним не подойдёт.
Петя побледнел.
— Марин…
— Нет, Петя, — перебила я. — Теперь ты слушаешь. Ты хотел «не ссориться». Вот к чему это привело. Она решила, что может делать всё. Она решила, что имеет право. И теперь она пойдёт до конца. Потому что ей важна не квартира. Ей важно доказать, что она главная.
Он сидел и смотрел на меня, как будто впервые видел.
— Что мне делать? — спросил он.
И вот тут я сказала то, что копилось во мне много лет.
— Быть мужем. Не сыном. Мужем.
Он кивнул.
— Хорошо.
— И ещё, — добавила я. — Мы не будем ей объяснять. Мы не будем оправдываться. Мы будем жить. И всё.
Он вдруг тихо рассмеялся. С каким-то нервным облегчением.
— Знаешь, что она сказала перед тем, как уехать? — спросил он.
— Что?
— Что она… как государственная граница. Через неё никто не проходит без контроля.
Я посмотрела на него.
— Только не говори это слово, — сказала я сухо.
Он моргнул.
— Какое?
— Неважно, — ответила я. — Просто не надо.
Он понял. И кивнул.
Мы сидели молча. В квартире было тихо. Только холодильник гудел. И дети в комнате шуршали игрушками.
И вдруг старшая выбежала и сказала:
— Мам! Пап! Можно мы сделаем домик из подушек?
Я посмотрела на неё. Потом на Пету.
— Можно, — сказал он.
Дети начали строить крепость. Подушки, пледы, стулья. Они смеялись. И это было так просто, так нормально, что у меня защипало глаза.
Я отвернулась к окну. Там был наш палисадник. Голая земля. Осень. И в этом голом кусочке земли вдруг было больше надежды, чем во всех разговорах с Зинаидой Васильевной.
Петя подошёл ко мне сзади.
— Марин, — сказал он тихо. — Я не обещаю, что стану идеальным. Но я обещаю, что больше не буду молчать.
Я повернулась.
— Посмотрим, — сказала я. — Потому что слова — это легко. А вот когда она снова появится…
Он перебил:
— Она не появится. Я сказал ей: если она придёт без приглашения — я вызову полицию.
Я посмотрела на него. И впервые за долгое время почувствовала, что у меня под ногами есть что-то твёрдое.
Не любовь. Не романтика. А простая взрослая опора.
— Тогда ладно, — сказала я. — Тогда живём.
Через неделю пришло сообщение от неё. Одно. Короткое.
«Петя, ты мне больше не сын».
Петя показал мне телефон. Смотрел так, будто его ударили.
— Тебе больно? — спросила я.
Он кивнул.
— Да.
— Тогда запомни это чувство, — сказала я. — И запомни, что она сама выбрала так. Не ты.
Он молчал. Потом сказал:
— Я всегда думал, что семья — это когда терпишь.
— Семья — это когда уважают, — ответила я.
Он посмотрел на детей, которые строили свою крепость, и вдруг сказал:
— Я хочу, чтобы у них было по-другому.
— Тогда делай, — сказала я. — Не говори.
И в этот момент в двери щёлкнул новый замок. Не потому что кто-то вошёл. А потому что он просто щёлкал — как напоминание.



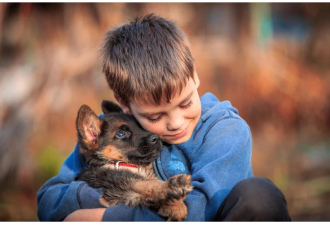













 Свекровь с золовкой отказались помочь, когда у нас срывалась ипотека, но через два года сами просили о спасении
Свекровь с золовкой отказались помочь, когда у нас срывалась ипотека, но через два года сами просили о спасении