— Ты здесь не хозяйка, поняла? Ключи от дома я полиции отдам, если ещё раз увижу твою машину у калитки.
Светлана замерла на крыльце, пальцы сжались вокруг ручки потёртой кожаной сумки. Мать Мити стояла в дверях, преграждая вход телом — тощим, но удивительно твёрдым, как высохший корень. На ней был тот самый фиолетовый халат с выцветшими цветами, в котором Света видела её двадцать лет назад, уезжая из этого дома навсегда. Только тогда халат был новым, а Евдокия — ещё способной к ярости. Сейчас в её глазах плескалась не злоба, а что-то хуже: ледяная уверенность в собственном праве.
— Я не за вещами приехала, — тихо сказала Светлана. — Я на похороны отца приехала.

— Какого отца? — Евдокия скривила губы. — У тебя отца нет. Есть бывший муж, который до сих пор на тебя зубы точит. А мой Павел… мой Павел тебя из дому выгнал. При жизни выгнал. Не намерен я его волю после смерти перечить.
Светлана медленно подняла глаза на фасад дома. Деревянный, с облупившейся краской, с верандой, где когда-то качались её дочки в гамаке, сплетённом из старых простыней. За двадцать лет ничего не изменилось — ни облезлый штакетник, ни перекошенная калитка, ни яблоня у забора, под которой Митя впервые поцеловал её пятнадцатилетней девчонкой. Только теперь в окнах не было занавесок. Только пустота и тень Евдокии, отбрасываемая утренним солнцем на потрескавшиеся ступеньки.
— Он меня не выгонял, — сказала Светлана. — Я ушла сама.
— Ушла? — Евдокия фыркнула. — Ушла — это когда дверь за собой закрываешь. А ты как крыса проскользнула ночью. Детей бросила. Внуки твои до сих пор спрашивают, куда бабка делась. Думают, ты умерла.
Светлана сглотнула ком в горле. Внуки. Значит, Вера дочку родила. Или Люба. Не знала даже, как зовут. Не знала, в каком они классе, любят ли яблоки с этой самой яблони, боятся ли грозы, как боялась Вера в детстве. Двадцать лет молчания. Двадцать лет писем, возвращавшихся с пометкой «адресат не проживает». Двадцать лет ночных кошмаров, где две маленькие девочки зовут её из темноты, а она не может найти к ним дорогу.
— Я писала, — прошептала она.
— Писала? — Евдокия шагнула ближе, запахнув халат на груди. От неё пахло дешёвым кремом и чем-то кислым, старческим. — Мои письма ты получала? Я тебе каждую неделю писала. Пока он в больнице лежал после инсульта, я писала. Пока Люба в школе драку устроила, я писала. Пока Вера замуж выходила, я писала. Ни одного ответа. Ни одного. А теперь якшишься сюда, как будто ничего не было. Как будто можно просто так вернуться и встать у плиты, как раньше.
— Я не хочу к плите, — Светлана подняла голову. Впервые за разговор посмотрела свекрови прямо в глаза. — Я хочу посмотреть на него. Проститься. Это мой ребёнок тоже хоронит отца.
Евдокия замерла. На секунду в её лице мелькнуло что-то хрупкое — не жалость, не раскаяние, а просто усталость. Глубокая, выжженная годами ненависти усталость.
— Твой ребёнок? — переспросила она тихо. — Ты хоть представляешь, что Вера в пятнадцать лет по ночам плакала? Спрашивала, чем она виновата, что мать бросила. Люба вообще перестала тебя мамой называть. Зовёт «та женщина». Ты для них призрак, Света. Призрак, который иногда присылает посылки с непонятной одеждой. Они их даже не открывали. Выбрасывали в мусорный бак у подъезда. Я видела.
Светлана почувствовала, как подкашиваются ноги. Прислонилась спиной к перилам веранды. Дерево было шершавым, знакомым. Здесь она сидела летними вечерами, читая книжки дочкам, пока Митя возился в огороде. Здесь она впервые поняла, что любит этого молчаливого парня, который умел чинить всё — от крана до детских слёз. Здесь же она впервые почувствовала, как любовь превращается в привычку, привычка — в обязанность, а обязанность — в клетку.
— Я не бросила их, — сказала она, и голос дрогнул. — Я ушла, чтобы не умереть. Понимаешь? Не от болезни. А так… изнутри. Как лампочка перегорает. Тихо. Без дыма. Просто перестаёшь светить.
Евдокия молчала. За её спиной в глубине дома что-то скрипнуло — старый паркет под чьими-то шагами. Потом появилась Вера. Высокая, худая, с лицом, похожим на Митино, но с глазами Светы — тёмными, с тенью под нижним веком. Она остановилась за материнским плечом, не выходя на крыльцо. Смотрела на Светлану без злобы, без любопытства — с той осторожностью, с которой смотрят на незнакомую собаку у подъезда.
— Мама, — сказала она Евдокии. — Гроб уже везут из ритуала. Надо собираться.
— Иду, — откликнулась Евдокия, не оборачиваясь. Потом снова посмотрела на Светлану. — Ты поедешь отдельно. На такси. И на кладбище станешь с краю. Не смей подходить к могиле первой. Не смей бросать землю. Это право у тебя отняла сама жизнь.
Светлана кивнула. Согласилась. Ради возможности хоть издалека увидеть лицо отца — человека, который когда-то защитил её от всей деревни, когда она, семнадцатилетняя, забеременела от парня из райцентра. Павел тогда сказал всем: «Моя дочь. Мои проблемы». И принял её в дом, как родную. А она отплатила ему вот так — исчезновением.
Она отошла от крыльца, села на обочину у шоссе. Достала телефон — экран потрескавшийся, батарея на двадцати процентах. Набрала номер Игоря. Он ответил сразу, как всегда.
— Ну как? — спросил его голос, тёплый и знакомый, как дыхание родного дома.
— Не пускает, — сказала Светлана. — Говорит, на кладбище стану с краю.
— Брось всё, — сказал Игорь. — Зачем тебе это? Ты же знала, как будет.
— Я должна, — прошептала она. — Я должна хотя бы издали посмотреть на него. Просто посмотреть.
Игорь вздохнул. Она слышала его дыхание — ровное, терпеливое. Он ждал её двадцать лет. Не требовал, не торопил. Просто ждал, пока она закончит с прошлым. Их квартира в Краснодаре, их тихая жизнь у моря, их сын Лёша, который знал её только как маму — без теней, без шрамов. Но тени всё равно находили её. Каждую ночь. В каждом зеркале.
— Ладно, — сказал Игорь. — Но если начнётся истерика — уходи сразу. Не дожидаясь конца. Обещай.
— Обещаю.
Она положила трубку. Автобус из райцентра подъехал, высадил пару старушек с сумками. Они косо глянули на Светлану — слишком нарядную для здешних мест, в городском пальто, с сумкой не из «Пятёрочки». Одна что-то шепнула другой, и та кивнула с понимающим видом: «Воронова. Та самая. Вернулась».
Светлана встала, пошла к центру посёлка. Мимо магазина «У Даши», который раньше был сельпо, мимо новой церквушке из сруба, мимо памятника погибшим в Афганистане — ржавого солдата с отбитым носом. Всё узнаваемо и чуждо одновременно. Как лицо человека, которого ты любил, но слишком долго не видел.
У памятника она остановилась. Достала из сумки фотографию — старую, в потрёпанном уголке. На ней — она, двадцатилетняя, с двумя косичками и счастливыми глазами. Между ней и Митей — маленькая Вера, трёхлетняя, держит отца за палец. Люба ещё в животе. Это фото сделано за год до того, как всё сломалось.
А сломалось всё просто. Однажды вечером, когда она варила суп, а Митя смотрел футбол, она вдруг подумала: «Я умру здесь. Не от болезни. А оттого, что больше не смогу вспомнить, какой у меня голос, когда я пою». И в эту секунду в дверь постучали.
За дверью стоял Артём — архитектор из Москвы, приехавший оформлять документы на наследство после смерти тёти. Высокий, седоватый на висках, с руками, которые умели не только чертить планы, но и находить слова, когда их не было. Он пришёл спросить про старый дом на окраине — тот самый, где сейчас жила Евдокия. И остался на час. Потом на два. Потом приходил каждый вечер под предлогом «обсудить документы».
Они не целовались первые две недели. Просто сидели на лавочке у пруда и говорили. Он рассказывал о Москве, о театрах, о книгах, которые она никогда не читала. Она рассказывала о дочках, о саде, о том, как мечтала учиться на библиотекаря. Он слушал так, будто каждое её слово — открытие. А Митя слушал её последние пять лет так, будто она — радио на кухне: фон, который можно выключить.
Евдокия узнала первой. Не потому что подслушала — она просто знала. У таких женщин шестое чувство настроено на чужую слабость, как антенна на частоту.
— Значит, так, — сказала она однажды вечером, когда Митя был на смене. Вошла без стука, села за стол, положила перед собой узловатые руки. — Этот москвич через месяц уедет и забудет твоё имя к утру. А тебе здесь жить. И детям твоим здесь жить. Я могу сделать так, что ты их больше не увидишь. Лишение родительских прав за аморальное поведение — дело пяти минут. Статья есть, свидетели найдутся. Дашка из магазина уже всё видела. И Клава-почтальонша.
Светлана молчала. Смотрела на трещину в линолеуме — ту самую, которую Митя обещал заклеить ещё весной.
— Выбирай, — сказала Евдокия. — Или ты заканчиваешь этот позор сегодня, или я забираю внучек. У тебя до утра.
Она ушла. А Светлана сидела до рассвета. Смотрела на спящих дочек — Вера обнимала плюшевого зайца, Люба спала, откинув одеяло. И думала: если я останусь, я умру. Не сразу. Но то, что делает меня мной — исчезнет. Навсегда.
Утром она пошла к Артёму. Он жил в гостинице «Рассвет» — два этажа, обои в коридоре отклеились клочьями. Она постучала в дверь на рассвете. Он открыл сразу, будто не спал.
— Уезжай со мной, — сказал он, когда она всё рассказала. — Заберём детей потом. Добьёмся развода.
Она знала, что этого не будет. Митя не даст развода — из гордости, из упрямства. Евдокия не отступит. Но кивнула. Потому что иначе было нельзя.
На следующий день Евдокия собрала народ у сельсовета — теперь это была администрация посёлка. Экстренное собрание по вопросу морального облика. Светлану вызвали к трибуне. Она стояла, опустив голову, слушая, как свекровь говорит о позоре, о гнили в семье, о том, как она якшается с приезжим, пока муж на работе.
И тут поднялась Мария Ивановна — старая бухгалтерша, вдова афганца. Её все уважали. Она потеряла мужа и сына с разницей в год, с тех пор не боялась ничего.
— Раз уж судим, — сказала она тихо, но в тишине было слышно каждое слово, — давайте честно. Евдокия Петровна, расскажи людям, как твой Павел после пенсии ездил в райцентр. К Нюрке-продавщице. Два года ездил. Думаешь, никто не знал?
Евдокия побледнела. Председатель грохнул кулаком по столу — собрание закрыто.
Вечером того же дня Артёму позвонили из Москвы. Его проект отменили — кто-то пожаловался, что он «слишком много внимания уделяет проблемам региона». Ему велели вернуться немедленно.
Он нашёл Светлану у колодца — она вышла за водой, потому что не могла больше сидеть дома и слушать молчание Мити. Муж вернулся с работы, уже знал обо всём, но не сказал ни слова. Просто смотрел тяжело, пристально. Это было страшнее крика.
— Я уезжаю завтра утром, — сказал Артём. — Но могу задержаться. Если ты решишься…
Она решилась за одну ночь.
Уехала на рассвете. Оставила матери записку — несколько строк, которые потом тысячу раз перечитывала в памяти. Мужу ничего не оставила. Детей не взяла.
Это решение преследовало её всю жизнь.
Митя отказался давать развод. Евдокия поддержала — развод это пятно. Пусть все знают: жена гулящая, муж порядочный. Светлана уехала без штампа, без права на новую семью, без возможности официально стать женой Артёма. Он устроил ей временную регистрацию в Краснодаре, нашёл работу в проектном бюро. Она начала с чертежей, потом перешла в отдел смет.
Дочери остались с отцом и бабкой. Письма от матери не доходили — Евдокия перехватывала, рвала, сжигала в печи. Вера и Люба росли, зная одно: мать их бросила.
На юге было по-другому. Солнце, от которого болели глаза. Пыльные улицы, громкие базары, запахи специй. Люди смотрели с любопытством, но без злобы. Ей казалось, она попала на другую планету.
Они снимали комнату в старом доме. Потом получили квартиру от бюро — маленькую, с окнами во двор. Через несколько лет родился Лёша. В метрике — прочерк в графе «отец». Артём никогда не жаловался, но Светлана видела, как он смотрит на эту бумажку. Что-то в нём обрывалось каждый раз.
Счастливы ли они были? Да. Насколько может быть счастлив человек, оставивший кусок себя в прошлом.
Светлане часто снились дочери. Маленькие, с косичками, тянут руки. Просыпалась — подушка мокрая.
Письмо пришло через пятнадцать лет. Писала Даша из магазина — та самая, которую Евдокия называла свидетельницей. «Вера болеет. После родов слегла. Лежит в больнице. Люба уехала в город, замуж вышла. Евдокия Петровна померла в прошлом году. Митя пьёт».
Светлана поехала сразу. Без Игоря — он тогда ещё не был её мужем. Просто друг, который ждал.
Вера лежала в палате. Похудевшая, с запавшими щеками.
— Зачем приехала? — холодно спросила она.
— Ты моя дочь.
— Я много лет была тебе не нужна. Ни матери, ни нормального отца у меня не было. Только ненавидящая весь свет бабка.
Светлана села на край кровати. Не оправдывалась. Просто смотрела на свою девочку — уже взрослую женщину с седыми прядями в тёмных волосах.
— Я не прошу прощения, — сказала она. — Знаю, что не заслужила. Просто хотела, чтобы ты знала. Я думала о тебе каждый день. О тебе и о Любе. Каждый день без пропуска.
Вера молчала долго. За окном падал снег.
— У меня дочь, — сказала наконец она. — Назвала в твою честь. Сама не знаю зачем.
Они говорили до рассвета. Про Евдокию, которая так и не смягчилась. Про Митю, который после смерти матери сломался. Про ту ночь, когда Светлана ушла.
— Я злилась всё детство, — сказала Вера под утро. — А потом родила свою дочь и вдруг поняла: ты просто хотела жить по-настоящему. Не по правилам, которые придумали другие. Я не знаю, правильно это или нет. Но я поняла.
Вера выжила. У неё была причина жить — маленькая дочка с именем бабушки, которую она почти не знала.
Артём умер через три года после этого. Инсульт. Быстро. Светлана осталась вдовой человека, который по бумагам был ей никто.
И вот она снова здесь. У дома, откуда ушла двадцать лет назад. Евдокия мертва. Павел мёртв. Остался только Митя — сгорбленный, с лицом пропойцы. И дочери, которые, может быть, простят. А может — никогда.
Автобус до кладбища подъехал. Евдокия вышла первой, держа Вера под руку. Любы не было — видимо, не приехала. Светлана села в хвосте салона, у окна. Смотрела, как мелькают знакомые дома. И думала: можно ли вернуться туда, откуда ушёл? Или ты всегда останешься чужой — даже для себя?
Автобус остановился у ворот кладбища. Светлана вышла последней, держась в тени деревьев. Моросил мелкий дождь, такой мокрый и противный, что зонты казались бесполезными. Люди собирались у свежей могилы — Павел был не просто председателем, он был легендой посёлка. Тот, кто держал всё в кулаке, кто строил, кто решал. Его хоронили с почестями.
Евдокия стояла у края ямы, прямая, несмотря на возраст. Вера — рядом, в чёрном пальто, с лицом, на котором не было ни слёз, ни боли — только усталость. Митя отсутствовал. Светлана огляделась — его нигде не было. Значит, напился. Или не смог прийти. Или просто не захотел.
Она отошла ещё дальше, к старым могилам, где трава была выше колена. Отсюда было видно всё, но никто не мог её заметить. Пастор начал говорить что-то о заслугах, о трудовой жизни, о вечном покое. Светлана слушала вполуха. Её мысли были далеко — там, в прошлом, где она впервые увидела Павла.
Павел тогда был другим — крепким, с густыми бровями и голосом, от которого дрожали стёкла в окнах. Он пришёл в их дом после того, как соседи устроили скандал — семнадцатилетняя девка забеременела от городского парня. Мать Светы рыдала на кухне, отец — если бы он был жив — наверняка бы её прибил. Но отца не было. Был только Павел, который постучал в дверь и сказал:
— Девка моя. Проблема моя. Кто ещё вопросы задавать будет — ко мне.
Он забрал её к себе. Не из жалости — Павел не умел жалеть. А из принципа. Его слово было законом, и он не собирался позволять деревне судить его приёмную дочь. Евдокия тогда неделю не разговаривала с ним, но Павел стоял на своём.
— Она ребёнок, — говорил он Свете по вечерам, когда Евдокия уходила спать. — Ребёнок делает глупости. А взрослые должны их прощать.
Она родила Вера в его доме. Митя помогал — молчаливый, серьёзный, с руками, которые умели всё починить. Потом родилась Люба. Потом — жизнь. Серая, ровная, без вспышек.
А потом пришёл Артём.
Гроб опускали в землю. Светлана сжала кулаки. Она хотела подойти, бросить горсть земли, сказать хоть слово. Но не могла. Евдокия предупредила — не смей. И она не смела. Не из страха перед свекровью — из страха перед собой. Что она скажет? «Прости»? Павел не нуждался в прощении. Он был тем, кто прощал других.
Когда последние комья упали на крышку, люди начали расходиться. Евдокия и Вера пошли к выходу, не оглядываясь. Светлана осталась одна у могилы. Подошла ближе, опустилась на колени в мокрую траву.
— Прости, — прошептала она. — Я не хотела…
— Он знал, — сказал голос за спиной.
Светлана обернулась. За ней стоял Митя. Не сгорбленный, не пьяный — просто старый. В чёрном костюме, который явно был ему великоват, с лицом, на котором читалась не злоба, а что-то похожее на смирение.
— Знал что? — спросила она.
— Что ты вернёшься, — сказал Митя. — Говорил мне перед смертью: «Когда умру — она приедет. Обязательно приедет».
Светлана встала, отряхнула колени. Смотрела на бывшего мужа — человека, с которым прожила десять лет, родила двух дочерей, а теперь не знала, что сказать.
— Ты пил, — сказала она наконец.
— Пил, — кивнул Митя. — После того как ты ушла. Год пил. Потом бросил. Евдокия заставила. Сказала: «Или бросаешь, или внучек не увидишь».
— Она всегда знала, как нажать на кнопку.
— Знала, — согласился Митя. — Но она умерла. И Павел умер. Остались только мы. Ты, я, Вера, Люба…
Он замолчал. Посмотрел на могилу, потом на Светлану.
— Люба не приехала, — сказал он. — Звонила вчера. Сказала: «Не хочу её видеть». И бросила трубку.
Светлана кивнула. Больше ничего не сказала. Что тут скажешь? Дочь, которая не хочет видеть мать. Двадцать лет молчания. Двадцать лет обиды.
— Пошли, — сказал Митя. — Домой. Надо поговорить.
Дом был таким же, как в её воспоминаниях. Та же кухня с линолеумом, тот же стол, за которым она кормила детей, та же печь, в которой Евдокия сжигала её письма. Только теперь на столе стояла бутылка водки и два стакана.
— Пить не буду, — сказала Светлана.
— Я тоже, — ответил Митя. — Для вида. Чтобы соседи не сплетничали.
Он сел напротив неё. Долго молчал, глядя в окно, где за стеклом косо падал дождь.
— Павел оставил завещание, — сказал он наконец.
Светлана подняла глаза.
— Мне?
— Нет, — покачал головой Митя. — Не тебе. Дому. Дому на окраине. Тому, где жила Евдокия.
Светлана не поняла.
— Что значит — дому?
— Завещание на дом, — повторил Митя. — Но не мне. Не Верке. Не Любе. А тебе.
Светлана замерла. Сердце забилось так громко, что она боялась, будто он услышит.
— Почему? — спросила она.
— Не знаю, — пожал плечами Митя. — Может, хотел, чтобы ты вернулась. Может, просто решил, что ты заслужила. Евдокия, когда узнала, чуть инсульт не получила. Говорила: «Это наш дом. Наш!» А Павел ей ответил: «Дом тому, кто его любит. А ты его ненавидишь».
Светлана вспомнила тот дом. Маленький, деревянный, с садом, где росли яблони. Там она впервые поцеловала Митю. Там она рожала Веру. Там она плакала ночами, когда поняла, что больше не может.
— Я не хочу дом, — сказала она.
— А я не хочу, чтобы ты его получила, — ответил Митя. — Но это воля Павла. И я её уважаю.
Он встал, подошёл к шкафу, достал папку с документами. Положил перед ней.
— Вот. Завещание. Ключи. Всё, что нужно. Дом твой. Делай с ним что хочешь.
Светлана взяла папку. Пальцы дрожали. Она открыла — там лежали бумаги, подписанные рукой Павла. И фотография. Старая, пожелтевшая. На ней — она, двадцатилетняя, с Вера на руках. Люба ещё в животе. Павел стоит рядом, обнимает её за плечи. Все улыбаются.
— Откуда это? — спросила она.
— Не знаю, — сказал Митя. — Нашёл в его столе. Вместе с завещанием.
Светлана смотрела на фотографию. На себя — молодую, счастливую, с глазами, которые ещё верили в будущее. На Павла — сильного, уверенного, с руками, которые защищали. На Вера — маленького, с кулачками, сжатыми в крошечные кулаки.
— Он меня любил, — прошептала она.
— Любил, — кивнул Митя. — Больше, чем меня. Больше, чем Евдокию. Ты была для него дочерью. Настоящей.
Светлана заплакала. Тихо, без всхлипов — просто слёзы катились по щекам. Она не вытирала их. Пусть текут. Пусть смывают двадцать лет обиды, двадцать лет вины, двадцать лет боли.
— Вера простила тебя, — сказал Митя. — Я видел, как она смотрела на тебя на кладбище. Не злоба. Понимание.
— А Люба?
— Люба… — Митя вздохнул. — Люба другая. Она всегда была другой. Сильная. Упрямая. Как ты.
— Она меня ненавидит.
— Не ненавидит, — покачал головой Митя. — Просто не понимает. Ей нужно время.
Он замолчал. Посмотрел на часы.
— Мне пора, — сказал он. — Вера ждёт. Надо ехать.
Он встал, надел пальто. На пороге остановился, обернулся.
— Ты останешься? — спросил он.
— Не знаю, — ответила Светлана.
— Думай, — сказал Митя. — Но знай одно. Дом твой. И если захочешь — приезжай. Вера не против. Люба… ну, с Любой разберёшься.
Он ушёл. Светлана осталась одна в пустом доме. Села за стол, смотрела на фотографию. На себя — молодую, счастливую. На Павла — сильного, доброго. На Вера — маленького, беззаботного.
— Прости, — прошептала она снова. — Прости за всё.
Она вышла из дома под вечер. Дождь прекратился, небо очистилось, показались звёзды. Посёлок спал — огни в окнах горели редко, на улицах было тихо. Только где-то лаяла собака да скрипела калитка на ветру.
Светлана пошла к дому на окраине. Ключи тяжело лежали в кармане. Она шла медленно, вдыхая запах мокрой земли и свежего воздуха. Здесь, в посёлке, воздух был другим — чище, гуще, с примесью дыма из печных труб и аромата яблонь.
Дом стоял в конце улицы, за высоким забором из досок. Калитка была заперта, но Светлана нашла ключ — старый, железный, с бороздками от времени. Открыла, вошла во двор.
Всё было так, как она помнила. Та же яблоня у забора, те же грядки, где когда-то росла капуста и морковь, тот же сарай, где Митя чинил инструменты. Только теперь всё заросло травой, покосилось, обветшало. Дом молчал — окна были тёмными, дверь закрыта.
Светлана подошла к крыльцу. Ключ от двери был другим — медным, с круглой ручкой. Она вставила его в замок, повернула. Замок скрипнул, дверь открылась.
Внутри пахло старым деревом и пылью. Светлана нащупала выключатель — свет не горел. Электричество отключили после смерти Евдокии. Она достала телефон, включила фонарик.
Комната была пустой. Мебели не было — только старый диван у стены и стол посреди. На полу — половики, выцветшие от времени. На стенах — следы от картин, которые когда-то висели здесь.
Светлана прошла в спальню. Там стояла кровать — та самая, на которой она рожала Вера. Пустая, без матраса, без одеял. Только деревянный каркас и пружины.
Она села на край кровати. Посмотрела вокруг. Здесь она жила десять лет. Здесь она любила, ненавидела, мечтала, плакала. Здесь она стала матерью. Здесь она потеряла себя.
— Что я здесь делаю? — спросила она вслух.
Никто не ответил. Только ветер за окном шелестел листьями яблони.
Светлана встала, пошла на кухню. Там была печь — та самая, в которой Евдокия сжигала её письма. Светлана открыла дверцу, заглянула внутрь. Пепла не было — Евдокия умерла полгода назад, и с тех пор здесь никто не жил.
Она закрыла дверцу, прислонилась лбом к холодному железу.
— Я не хочу этого дома, — прошептала она. — Я не хочу возвращаться.
Но почему-то не уходила. Стояла у печи, слушала тишину, вдыхала запах старого дерева и пыли. И чувствовала что-то странное — не ностальгию, не тоску, а что-то другое. Что-то, что она давно забыла.
Дом. Настоящий дом. Не квартира в Краснодаре, не съёмная комната, не гостиница. Дом, где она жила, где рожала детей, где любила и ненавидела. Дом, который был её частью.
— Я не могу, — сказала она. — Я не могу остаться.
Но ноги не шевелились. Она стояла у печи, смотрела в темноту, слушала тишину. И вдруг поняла — она не может уйти. Не потому что хочет остаться. А потому что должна.
Телефон зазвонил под утро. Светлана спала на полу, укутавшись в куртку. Проснулась от звонка, сонно потянулась к телефону.
— Алло? — сказала она.
— Мама? — спросил голос на другом конце.
Светлана замерла. Сердце пропустило удар.
— Люба? — переспросила она.
— Да, — сказал голос. — Это я.
Светлана села. Сердце колотилось так громко, что она боялась, будто Люба услышит.
— Ты… ты как? — спросила она.
— Нормально, — ответила Люба. — Слушай, мам. Я знаю, что ты там. В посёлке. Вера сказала.
Светлана молчала. Что ответить? «Прости»? «Я люблю тебя»? «Я скучала»?
— Я не хочу тебя видеть, — сказала Люба. — Не сейчас. Может, никогда.
Светлана закрыла глаза. Боль ударила в грудь — острая, жгучая.
— Понимаю, — прошептала она.
— Но я хочу, чтобы ты знала, — продолжала Люба. — Я не ненавижу тебя. Просто… я не понимаю. Почему ты ушла? Почему оставила нас? Почему не боролась?
Светлана открыла глаза. Смотрела в темноту, видела лицо дочери — взрослой, серьёзной, с глазами, которые были такими же, как у неё.
— Я боролась, — сказала она. — Просто… по-другому. Я думала, что ухожу, чтобы спасти себя. А на самом деле… я просто сдалась.
— Ты не сдалась, — сказала Люба. — Ты ушла. Это разные вещи.
Светлана не ответила. Что тут ответишь? Люба права. Она ушла. Не сдалась — ушла. Оставила детей, мужа, дом. Ради чего? Ради свободы? Ради любви? Ради себя?
— Я скучаю по тебе, — сказала Люба тихо. — Каждый день. С самого детства. Я помню, как ты пела мне колыбельные. Как читала сказки. Как укладывала спать. Я помню всё.
Светлана заплакала. Тихо, беззвучно — слёзы текли по щекам, падали на пол.
— Я тоже скучаю, — прошептала она. — Каждый день. Каждую ночь. Я думаю о вас. О тебе и о Вере. Каждый день без пропуска.
— Я знаю, — сказала Люба. — Вера сказала. Она тебя простила. А я… я ещё не знаю.
— Я не прошу прощения, — сказала Светлана. — Я знаю, что не заслужила.
— Не про это, — покачала головой Люба. — Просто… подожди. Дай мне время.
— Я подожду, — сказала Светлана. — Сколько нужно.
Люба помолчала. Потом сказала:
— Мама?
— Да?
— Я люблю тебя.
И положила трубку.
Светлана сидела на полу, держа телефон в руке. Слёзы текли по щекам, но она не вытирала их. Пусть текут. Пусть смывают двадцать лет боли, двадцать лет вины, двадцать лет одиночества.
Она встала, подошла к окну. За окном светало — небо на востоке розовело, звёзды гасли одна за другой. Посёлок просыпался — где-то лаяла собака, скрипела калитка, петухи кричали на рассвет.
Светлана открыла окно. Воздух был свежим, холодным, с запахом росы и яблок. Она вдохнула глубоко, почувствовала, как лёгкие наполняются жизнью.
— Я останусь, — сказала она вслух. — Я останусь и буду ждать.
День прошёл в хлопотах. Светлана сходила в администрацию, оформила документы на дом. Потом пошла в магазин, купила продукты, лампочки, свечи. Вернулась домой, убрала пыль, вымыла полы, протёрла окна.
К вечеру дом стал другим — не таким мрачным, не таким заброшенным. Светлана зажгла свечи, поставила чайник на печь. Сидела за столом, пила чай, смотрела в окно.
За окном сгущались сумерки. Посёлок погружался в тишину — огни в окнах гасли один за другим, на улицах становилось пусто. Только где-то вдалеке слышался смех детей, возвращающихся домой.
Светлана допила чай, встала, пошла на улицу. Воздух был прохладным, с запахом дыма и яблок. Она прошла по двору, остановилась у яблони. Потрогала кору — шершавую, тёплую от дневного солнца.
— Я вернулась, — сказала она яблоне. — Я вернулась домой.
Яблоня молчала. Только листья шелестели на ветру, будто отвечали.
Светлана вернулась в дом, легла на диван. Закрыла глаза, слушала тишину. И впервые за двадцать лет почувствовала — она дома. Не в Краснодаре, не в гостинице, не в чужой квартире. А дома. В своём доме. Своём посёлке. Своей жизни.
— Я останусь, — прошептала она. — Я останусь и буду ждать.
И уснула. Спокойно, без снов, без кошмаров. Просто спала — как ребёнок, который знает, что утром его ждёт мама, завтрак и новый день.
Утром её разбудил стук в дверь. Светлана открыла глаза — за окном светило солнце, пели птицы, пахло свежестью и яблоками.
— Кто там? — спросила она, вставая.
— Это я, — ответил голос за дверью. — Вера.
Светлана подошла к двери, открыла. На пороге стояла Вера — в джинсах, футболке, с сумкой в руке. Лицо было спокойным, без улыбки, но и без злобы.
— Можно войти? — спросила она.
— Конечно, — кивнула Светлана.
Вера вошла, огляделась.
— Убрала, — сказала она. — Молодец.
— Спасибо, — ответила Светлана.
Они стояли в прихожей, не зная, что сказать. Двадцать лет молчания. Двадцать лет обиды. Двадцать лет боли.
— Люба звонила, — сказала Вера наконец. — Сказала, что поговорила с тобой.
— Да, — кивнула Светлана. — Она… она сказала, что любит меня.
Вера кивнула. Посмотрела на мать — внимательно, серьёзно.
— Она тебя любит, — сказала она. — Просто не умеет показывать. Как и ты.
Светлана молчала. Что ответить? «Прости»? «Я знаю»? «Я виновата»?
— Я не прошу прощения, — сказала она наконец. — Я знаю, что не заслужила.
— Не про это, — покачала головой Вера. — Просто… я хочу, чтобы ты знала. Я тебя простила. Давно. Ещё тогда, в больнице. Когда ты приехала.
— Ты не сказала.
— Не сказала, — согласилась Вера. — Потому что не знала, как. Прощение — это не слова. Это… действие. Я простила тебя, когда назвала дочь в твою честь. Когда рассказала ей о тебе. Когда ждала тебя.
Светлана смотрела на дочь — взрослую, сильную, с глазами, которые были такими же, как у неё. И вдруг поняла — Вера не ребёнок. Вера — женщина. Женщина, которая простила. Женщина, которая ждала.
— Спасибо, — прошептала она.
— Не за что, — сказала Вера. — Просто… останься. Пожалуйста. Не уезжай.
Светлана кивнула. Посмотрела на дом — на стены, на пол, на окна. На яблоню за окном. На посёлок за яблоней. На жизнь, которая ждала её здесь.
— Я останусь, — сказала она. — Я останусь и буду ждать.
Вера улыбнулась. Впервые за двадцать лет Светлана увидела её улыбку — настоящую, без тени обиды, без маски.
— Тогда пойдём, — сказала Вера. — Покажу тебе дочку. Она у бабушки. Ждёт.
Светлана взяла куртку, вышла на улицу. Вера шла рядом — не держась за руку, но и не отдаляясь. Они шли по улице, мимо домов, мимо яблонь, мимо жизни, которая продолжалась.
— Как её зовут? — спросила Светлана.
— Зинаида, — ответила Вера. — В твою честь.
Светлана остановилась. Посмотрела на дочь — серьёзную, спокойную, с глазами, которые видели слишком много.
— Почему? — спросила она. — Почему в мою честь?
— Потому что ты моя мама, — сказала Вера. — И я хочу, чтобы моя дочь знала тебя. Не как призрак из прошлого. А как человека. Как бабушку.
Светлана заплакала. Тихо, беззвучно — слёзы текли по щекам, падали на землю. Вера не сказала ничего. Просто ждала — терпеливо, спокойно.
— Я люблю тебя, — сказала Светлана наконец.
— Я знаю, — ответила Вера. — Я всегда знала.
Они пошли дальше — к дому Евдокии, где теперь жила Вера с дочкой. Солнце светило ярко, птицы пели, яблони цвели белыми цветами. Посёлок жил — как жил всегда, как будет жить всегда.
Светлана шла рядом с дочерью, держа руки в карманах. Смотрела на дорогу, на дома, на людей. И впервые за двадцать лет чувствовала — она дома. Не в Краснодаре, не в чужой жизни. А дома. В своём посёлке. Своей семье. Своей судьбе.
— Я останусь, — сказала она вслух. — Я останусь и буду ждать.
И знала — это правда. Она останется. Не ради себя. Ради них. Ради дочерей. Ради внучки. Ради жизни, которая ждала её здесь — в этом доме, в этом посёлке, в этой судьбе.
Яблони цвели особенно сильно. Ветер сносил белые лепестки на сырую землю. И казалось, будто кто-то сверху осыпает дорогу цветами — в знак прощения, в знак надежды, в знак новой жизни.








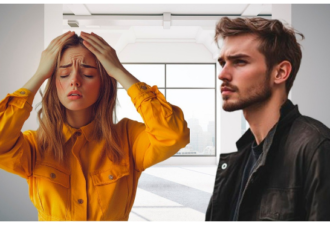








 Проучили несговорчивую свекровь
Проучили несговорчивую свекровь