— Ты знал. Ты знал, что она пускает сюда всех подряд, и молчал. Два месяца молчал.
Артём замер у двери холодильника, рука с бутылкой кефира зависла в воздухе. На лице — та самая минутная растерянность, которую Алина уже научилась распознавать с расстояния в три комнаты: глаза чуть расширяются, нижняя губа непроизвольно прикусывается, пальцы сжимаются. Как у мальчишки, пойманного с чужой конфетой в кармане.
— О чём ты? — спросил он, хотя голос уже выдал всё.

— О чём? — Алина отложила вилку рядом с недоеденной картошкой. Тарелка стояла посреди кухонного стола, рядом — его тарелка, чистая, вылизанная до блеска. Артём всегда доедал всё до крошки, говорил: «Нехорошо хлеб-соль обижать». Сейчас эти слова казались ей издёвкой. — О том, что твоя мама раздаёт ключи от нашей квартиры направо и налево. О том, что сегодня я застала твоего брата в нашей постели. С девицей. Которая расчёсывалась моей расчёской.
Бутылка кефира глухо стукнула о столешницу. Артём присел на стул напротив, провёл ладонью по лицу — жест усталого человека, который хочет выиграть время.
— Илья? В постели?
— А где ещё? На люстре? Он лежал на нашей кровати, Артём. Ногами к изголовью. Рубашка расстёгнута до пупа. Рядом — эта… Кристина. Светлая такая, с родинкой над губой. Расчёсывалась. Моей расчёской. Ты понимаешь, что это значит?
— Может, они просто… отдохнуть зашли…
— Отдыхать на чужой кровати с расстёгнутой рубашкой? — Алина рассмеялась — коротко, безрадостно. — Артём, мне тридцать четыре года, я работаю с детьми, но я не дура. Я видела, как они смотрели на меня: Илья — как на надоедливую соседку, а эта Кристина — как на горничную, которая не вовремя в комнату вошла. Это моя квартира. Моя. Помнишь, как мы выбирали обои? Ты три часа спорил за этот бежевый цвет, говорил, что серый давит. А я настаивала на сером. В итоге купили бежевый. И знаешь почему? Потому что я тогда ещё думала: это наше. Наше общее.
Артём молчал. Сидел, уставившись в свою пустую тарелку, будто надеясь, что в ней вдруг появятся ответы.
— Ты отдал ей ключи, — сказала Алина тише. — Не спросив меня. Просто взял и отдал маме. Когда?
— Месяца три назад…
— Три месяца! — Она вскочила, отодвинув стул так резко, что тот заскрежетал по линолеуму. — Три месяца я хожу по квартире и чувствую: что-то не так. Полотенце висит иначе. Мыло пахнет не так. Стакан в раковине, которого я не оставляла. Я думала, с ума схожу! Думала, устала на работе, нервы сдают. А оказалось — у нас тут постоялый двор для твоей родни!
— Мама хотела помочь! — вырвалось у него. — Она сказала, будет приходить, пока нас нет, протирать пыль, полы мыть…
— Протирать пыль в нашей спальне? С Ильёй и его подружкой? — Алина резко открыла ящик комода у окна, вытащила пачку квитанций. — Смотри. Вот за октябрь. Вот за ноябрь. Водоснабжение — на тридцать процентов больше, чем обычно. Электричество — на сорок. Кто тут у нас так активно «протирал пыль»? Ванну принимал? Свет оставлял гореть везде? Телевизор на ночь не выключал?
Артём потянулся за квитанцией, но она отдернула руку.
— Не трогай. Это мои документы. Мои квитанции. Потому что ипотеку я плачу. Из своей зарплаты. Ты помнишь, как два года назад сидел без работы? Кто тогда ел твои макароны с маслом и улыбался, что «всё наладится»? Я. Кто платил за эту квартиру? Я. А теперь твоя мама распоряжается моим пространством, как ей вздумается. И ты молчишь. Три месяца молчишь.
— Алина, ну что ты так… Это же мама. Она не со зла…
— Со зла никто никогда не действует! — Она всплеснула руками, и в этом жесте было столько усталости, что голос сорвался. — Все всегда «не со зла». Мужики, которые ключи отдают — не со зла. Мамы, которые вламываются в чужую жизнь — не со зла. Брат, который спит в чужой постели — тоже, наверное, не со зла. А результат один: я прихожу домой и не узнаю свою квартиру. Воздух другой. Запахи чужие. Ощущение, что ты здесь чужая. В собственном доме!
Она замолчала, тяжело дыша. За окном шумел дождь, стуча по подоконнику. Где-то этажом выше лаяла собака — тоненько, жалобно. Артём смотрел на неё, и в его глазах мелькало что-то похожее на жалость. Или на раздражение. Алине было всё равно.
— Ты понимаешь, — продолжила она тише, — я каждый день прихожу из школы и первые десять минут просто сижу на диване. Не ем, не раздеваюсь. Просто сижу и слушаю тишину. Тридцать шесть голосов целый день в ушах — «Алина Сергеевна, а можно выйти?», «Алина Сергеевна, он меня толкнул!», «Алина Сергеевна, я забыл тетрадку!» — и эта тишина после… Это как глоток воздуха после долгого погружения. А теперь эта тишина стала чужой. Потому что в ней — следы других людей. Их смех в стенах. Их запах на моих полотенцах. Ты хоть раз задумывался, что для меня значит этот дом?
Артём потёр виски.
— Я думал, ты преувеличиваешь. Мама же не вредит…
— Она лишает меня покоя! — Алина села обратно, опустила голову на руки. — Ты не понимаешь. Для тебя дом — это место, где едят и спят. Для меня — это крепость. Последнее место на земле, где я могу быть собой. Без маски учительницы. Без улыбки для начальства. Просто Алина. А теперь сюда входят без спроса. Спят в моей постели. Моей расчёской расчёсываются. Это не про ключи, Артём. Это про уважение. Или его отсутствие.
Он молчал долго. Потом встал, подошёл к окну, раздвинул шторы. За стеклом мелькнули огни проезжающей машины — жёлтые полосы на мокром асфальте.
— Мама звонила сегодня, — сказал он не оборачиваясь. — Говорила, что Илья с девушкой искали, где переночевать. У них с квартирой проблемы. Я не знал, что они именно сюда поедут…
— Но ключи ты отдал. Сознательно. Без моего спроса.
— Она попросила! — Он резко обернулся. — Ты же знаешь мою маму. Она умеет просить так, что отказывать невозможно. «Сыночек, а вдруг что случится? Я старая уже, внезапно заболею — кто мне дверь откроет?» Как я должен был ответить? «Мама, извини, жена не разрешает»? Ты бы хотела, чтобы я так сказал?
— Хотела бы, чтобы ты спросил меня! — Алина встала, подошла к нему. — Хотела бы, чтобы ты пришёл и сказал: «Алин, мама просит ключ. Что думаешь?» И мы бы обсудили. Может, я бы согласилась. Может, предложила бы ей свой запасной — для экстренных случаев. Но ты решил за меня. Как всегда решаешь за меня.
— Я не решаю за тебя!
— Решал, когда выбирал холодильник без меня. Решал, когда брал кредит на ремонт кухни. Решал, когда отдал ключи от квартиры, которую я плачу одна. Ты не решаешь за меня, Артём. Ты просто не считаешь нужным меня спрашивать.
Он отвернулся. В профиль его лицо казалось чужим — резче, жёстче, чем обычно. Алина вдруг вспомнила, как впервые увидела его на свидании: сидел в кафе «У дома» на Садовой, пил чай с лимоном, рассказывал про свою работу водителем — как любит дорогу, скорость, свободу. Говорил тихо, но в каждом слове чувствовалась уверенность. Она тогда подумала: вот человек, который знает, чего хочет. Оказалось, он знает, чего хочет его мама.
— Ты меня обвиняешь, — сказал он наконец. — Во всём обвиняешь. А сама? Ты хоть раз спросила, как я себя чувствую? Каково мне — между матерью и женой? Ты строишь из себя жертву, а я? Я должен был сказать маме «нет»? После всего, что она для меня сделала?
— Что она сделала? — Алина скрестила руки на груди. — Вырастила? Да, вырастила. Но ты уже взрослый мужчина. С женой. С квартирой. С жизнью. А она до сих пор обращается с тобой, как с мальчиком, которому нужно подтирать сопли. И ты позволяешь.
— Это не твоё дело — как мы общаемся с мамой!
— Стала моим делом, когда она начала распоряжаться моей квартирой. — Алина подошла к столу, взяла телефон. — Знаешь, что я сейчас сделаю? Позвоню слесарю. Завтра утром поменяю замки. Оба. И ключи тебе не дам. Потому что доверие — оно одноразовое. Разбил — не склеишь.
Артём замер. Потом медленно повернулся к ней.
— Ты шутишь?
— Никогда в жизни не была так серьёзна.
— Алина, подумай! Это же абсурд! Я живу здесь! Это мой дом тоже!
— Твой дом — там, где тебя уважают. А здесь, похоже, ты предпочитаешь уважать свою маму. Выбирай.
Она набрала номер, дождалась ответа. Говорила чётко, спокойно: адрес, время, тип замков. Слесарь пообещал приехать к десяти утра. Алина поблагодарила и положила трубку.
Артём стоял посреди кухни, как потерянный ребёнок. В руках сжимал край фартука — тот самый, который Алина шила из старых джинсов, с вышитым котёнком в углу.
— Ты меня выгоняешь? — спросил он тихо.
— Я восстанавливаю порядок. В своём доме.
— Это не дом. Это тюрьма. Ты превратила квартиру в тюрьму с правилами и расписанием. Никто не может зайти без спроса. Никто не может оставить вещи. Даже полотенце должно висеть определённым образом! Ты понимаешь, как это выглядит со стороны?
Алина усмехнулась — горько, без веселья.
— Со стороны? А ты попробуй посмотреть изнутри. Попробуй прийти домой и почувствовать, что твоё личное пространство нарушено. Что кто-то чужой спал в твоей постели, пил из твоей кружки, смотрел твои фотографии. Попробуй — и тогда поговорим про «тюрьму».
— Это не то же самое!
— Почему? Потому что я женщина? Потому что для мужчины дом — это просто квадратные метры, а для женщины — святыня? Ты так думаешь?
— Я не это имел в виду…
— А что имел? — Она подошла ближе. — Скажи прямо. Что ты обо мне думаешь? Про меня и мои «причуды»? Про мою потребность в порядке и уважении? Что говорит твоя мама? Наверное, «эта Алина такая эгоистка», да? «Не пускает свекровь в дом», «не понимает, что семья — это святое». Я права?
Артём открыл рот, но не сказал ничего. И в этой паузе Алина прочитала всё: да, именно так. Валентина Петровна говорила это. И он слушал. И, возможно, соглашался.
— Знаешь, — сказала она, — я всегда думала, что семья — это когда двое людей создают своё пространство. Свои правила. Свою атмосферу. И в это пространство другие входят только с разрешения. А оказалось — для тебя семья это не мы двое. Это ты, твоя мама и твой брат. Я — гостья. Вежливая, платежёспособная гостья, которая ещё и квартиру предоставляет.
— Это несправедливо!
— Несправедливо — молчать два месяца, зная, что твоя родня шныряет по чужой квартире. Несправедливо — ставить маму выше жены. Несправедливо — лишать человека его последнего убежища.
Она прошла в спальню, достала из шкафа чемодан — старый, кожаный, с потёртостями по углам. Расстелила его на кровати. Та самая кровать, на которой сегодня лежал Илья. Алина провела ладонью по покрывалу — будто смахивая невидимую пыль. Или следы чужого присутствия.
— Что ты делаешь? — Артём стоял в дверях.
— Собираю твои вещи. К утру всё будет готово. Чемодан, документы, деньги на такси. Завтра слесарь придёт, замки поменяет. Ты заберёшь вещи и уйдёшь.
— Алина, ну хватит драмы! Мы же можем поговорить!
— Мы говорим уже час. И я всё сказала. Ты всё услышал. Осталось только сделать выводы.
Она открыла шкаф, начала складывать его рубашки. Аккуратно, по цветам — белые отдельно, голубые отдельно. Так он любил. Раньше она смеялась над этой привычкой: «Ну кто так сортирует рубашки?» — а он отвечал: «Порядок в шкафу — порядок в голове». Сейчас эта фраза звучала иронично.
Артём молча смотрел, как она укладывает вещи. Потом вдруг сказал:
— А если я не уйду?
— Тогда я уйду сама. Возьму документы, перееду к подруге. А квартиру сдам. Или продам. Мне всё равно. Главное — чтобы здесь больше никто не чувствовал себя вправе делать что хочет.
— Ты не сделаешь этого.
— Проверь.
Она застегнула молнию на пакете с носками, положила его в чемодан. Достала из ванной его бритвенный станок, тюбик пасты, расчёску. Положила сверху. Застегнула чемодан.
— Готово.
Артём не двигался. Стоял, прислонившись к косяку, и смотрел на неё с выражением, которое Алина не могла прочитать. Может, это была обида. Может — страх. А может — что-то похожее на уважение. Или на понимание того, что игра проиграна.
— Ты никогда не уступаешь, — сказал он наконец.
— Уступать — не значит отдавать своё. Уступать — это находить компромисс. А здесь компромисса нет. Либо уважение к моему пространству, либо его отсутствие. Третьего не дано.
— А если я попрошу прощения?
— Прощение принимается только после исправления. А исправление начинается с признания ошибки. Ты признаёшь, что был неправ?
Он замолчал. Долго смотрел в пол. Потом кивнул — едва заметно.
— Да. Был неправ. Не должен был отдавать ключи без твоего спроса.
— И?
— И… должен был сказать тебе, когда мама начала приходить.
— И?
— И… должен был защитить твоё пространство. Наше пространство.
Алина кивнула. Подошла к окну, раздвинула шторы. За стеклом уже светало — серое, утреннее небо над крышами соседних домов. Где-то лаяла собака, слышался гул первых машин.
— Знаешь, — сказала она тихо, — я не хотела так. Не хотела доводить до этого. Я просто хотела, чтобы мой дом был моим. Чтобы я могла прийти сюда после тяжёлого дня и не думать: а кто тут был сегодня? Что трогал? Что оставил? Это так сложно — уважать чужое пространство?
Артём подошёл ближе. Остановился в полуметре.
— Нет. Не сложно. Просто… я вырос в другой семье. У нас двери всегда были открыты. Кто угодно мог зайти, переночевать, поесть. Мама говорила: «Дом — для людей». Я привык к этому.
— А я выросла в однокомнатной квартире с бабушкой. У нас был один уголок — мой. Под окном, за ширмой из старых простыней. Там стояла моя кровать, висели мои платья, лежали мои книги. И никто — никто! — не имел права туда заходить без спроса. Это был мой остров. Мой мир. И когда я выросла, я поняла: дом должен быть таким для всех. Не для гостей. Для хозяев.
Она повернулась к нему.
— Ты можешь остаться. Но при одном условии: завтра мы вместе пойдём к твоей маме. И ты скажешь ей: «Мама, спасибо за заботу, но наш дом — это наше пространство. Ключи больше не нужны. Если захотите прийти — звоните заранее». И ты скажешь это сам. Без моих подсказок. Без «может быть» и «ну вдруг». Чётко. Твёрдо.
Артём молчал. Потом глубоко вздохнул.
— Она будет плакать.
— Пусть плачет. Лучше поплакать сегодня, чем разрушить семью завтра.
— А если она обидится?
— Обида — её выбор. А твоя семья — твой выбор. Выбирай.
Он сел на край кровати, опустил голову в руки. Сидел так долго, что Алина уже подумала — он отказывается. Но потом поднял лицо. Глаза были красные, но взгляд — твёрдый.
— Хорошо. Пойдём. Завтра.
— Не завтра. Сегодня. Как только проснётся.
— Сегодня? — Он вздрогнул. — Алина, ну это же…
— Это твой шанс. Единственный. Либо сегодня, либо чемодан к двери. Выбирай.
Артём встал. Прошёл в кухню, налил воды в стакан. Выпил залпом. Поставил стакан на стол — аккуратно, по центру подставки.
— Хорошо. Сегодня.
Алина кивнула. Подошла к шкафу, достала его куртку. Повесила на руку.
— Тогда собирайся. В девять утра звоним ей. В десять — выезжаем.
— А замки?
— Замки подождут. Если разговор пройдёт хорошо.
Она посмотрела на него — впервые за этот долгий вечер без злости. Просто посмотрела. И увидела усталого мужчину, который всю жизнь пытался угодить всем: матери, брату, жене. И в этом старании потерял себя.
— Артём, — сказала она мягко. — Я не хочу тебя наказать. Я хочу, чтобы мы жили в одном доме. По одним правилам. Твои правила — мои правила. Потому что дом без правил — не дом. Это проходной двор.
Он кивнул. Медленно, будто каждое движение давалось с трудом.
— Я понял.
— Понял — или услышал?
— Понял.
Алина подошла к окну. За стеклом уже совсем рассвело. По тротуару шла женщина с собакой — маленькой, пушистой, которая норовила свернуть к каждому кусту. Где-то хлопнула дверь подъезда. Завёлся мотор машины.
— Знаешь, — сказала Алина, не оборачиваясь, — я всегда думала, что любовь — это про компромиссы. А оказалось — про границы. Про чёткие, непересекаемые линии. За которые нельзя заходить. Не потому что не любишь. А потому что уважаешь.
— Я не знал, что для тебя это так важно.
— Теперь знаешь.
Она повернулась к нему. Улыбнулась — впервые за этот вечер. Настоящей улыбкой, без горечи.
— Идём пить чай. Пока ещё есть время. А потом — разговор с мамой. Твой разговор.
Артём кивнул. Подошёл к плите, включил чайник. Достал две кружки — её любимую, с котом, и свою, с надписью «Лучший папа» (подарок от племянницы, которую он обожал). Налил воду.
И в этой простой картине — два человека за кухонным столом, чайник на плите, утренний свет за окном — Алина вдруг почувствовала: возможно, ещё не всё потеряно. Возможно, дом можно вернуть. Не тот, что был вчера. Но новый. Прочнее. Честнее.
Главное — чтобы первый шаг сделал он. Сам. Без подсказок. Без оправданий.
Чайник закипел. Свистнул — резко, настойчиво. Артём выключил газ. Налил воду в кружки.
— Алина, — сказал он тихо. — Прости.
Она посмотрела на него. Долго. Потом кивнула.
— Прощаю. Но помни: прощение — не разрешение повторять.
— Не повторю.
— Увидим.
Она взяла кружку, прижала ладони к горячей керамике. Тепло разлилось по пальцам — настоящее, живое. За окном пел воробей. Где-то смехнулся ребёнок.
День начинался. Новый день. В том же доме. Но, может быть, уже в другой жизни.


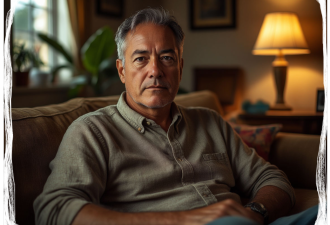











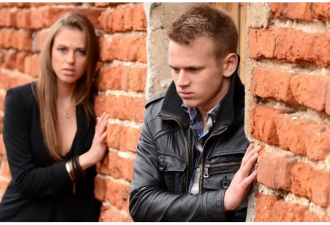


 У тебя 10 минут, чтобы освободить мою жилплощадь
У тебя 10 минут, чтобы освободить мою жилплощадь